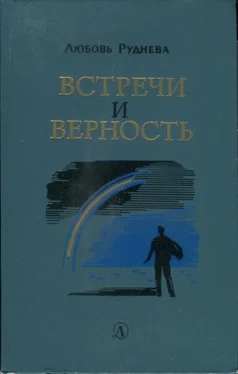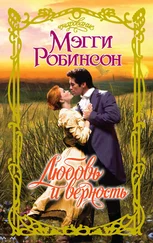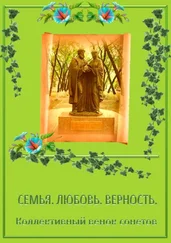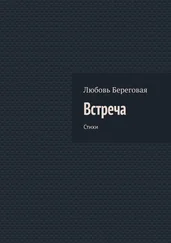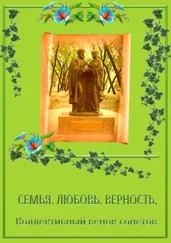Утро, день или ночь — он не знает. Нога в свежих бинтах лежит на подушке. Большая нога, чужая, вроде бревна. Но болит — значит, своя.
Стены, наверное, древние, а маленькие электрические озера растекаются на стенах, на тумбочке, на смятых простынях. На стене появляется тень великана, он взмахнул палицей. Тарас услышал: звякнули инструменты, резкий шепот, и снова звякнули инструменты.
Всюду своя война. И даже здесь, в Инкерманских штольнях, под многометровым слоем камня, в операционной госпиталя.
Тарас шевельнулся. Подошла сестра Соня, наклонилась, он почувствовал запах накрахмаленного, чуть подпаленного утюгом белья.
— Терпение, Тарас Степанович, рана сквозная. Кость целехонька. Варшавский сказал: «Комиссар хоть и атеист, а заколдованный, у него ранения хорошие».
— Что же, Варшавский всегда шутит. Впрочем, ему виднее.
— Крови много потеряли, потому и обеспамятели. Вот сделаем переливание и скоро перенесем вас отсюда. Поспите.
Он прикрыл глаза. Можно и поспать. Ведь три дня длился бой. На чем сорвался? Припомнил: слева ребята наскочили на минное поле, а он напоролся на бегу на что-то острое, раскаленное. Там и рухнул.
— Поспите, — повторила сестра.
А нога не на подушке, на раскаленном листе и, кажется, дрожит от боли. Все-таки нехорошо, в бою вместе, а здесь оторван ото всех и пригвожден к койке, к больному бревну, которое было твоей ногой. Было и, быть может, еще будет. Вот ведь Варшавский обещал, а ему-то лучше знать — все-таки начальник санчасти.
Ко всему можно приладиться, и к боли. Он задремывает.
Кто-то рядом всхлипывает во сне, невнятно и прерывисто. Звякнули инструменты, отдалось в ноге.
Деев с трудом повернул голову. Увидел: у операционного стола сгрудились врачи и сестры. На столе худенькое тело, спина подростка, торчат лопатки. Высокий, полный врач долго копается в этом бедном теле, оно блестит, покрытое испариной страдания. И опять больно звякают инструменты, что-то шлепается в таз.
Тарасу кажется, все он чувствует ногой. Скажи об этом Варшавскому, и он сочинит добрый анекдот.
Снова пронзительное звяканье. Тарас отворачивается: как долго.
Сестра вытирает ему лоб, он сглатывает с ложки сладкую горечь.
— Что же это так долго кромсают? — спрашивает он беспомощно.
— Все тело набито осколками и камушками.
— Где ранили?
— Известно, на Мекензиевых.
— Как же?
— За пулеметом. Не признали, да это ж Нина Онилова.
— Нина?! — захлебнулся Тарас.
К ней пускали немногих, она была слишком слаба. Но когда пришел Хамадан, севастопольский корреспондент «Правды», Варшавский приказал:
— Дайте халат… Вы ее друг по Одессе — это крепкая нить. Теперь Нина — это молчание и терпение.
В палате тусклый свет, лампа окутана марлей. На койке под одеялом будто ребенок. Нину узнать трудно. Взгляд ярких глаз, освещавших задорное лицо, потух. Несмотря на загар, обветренные щеки бледны, губы стали тонкими. Синий налет лег на скулы, тронул веки.
Нина смотрит на лампочку, словно удивляясь электрическому чуду. Непонятно, дремлет ли с открытыми глазами или прислушивается к разрушительной боли, разгрызающей ее маленькое тело.
Хамадан подошел тихо. Остановился у ее ног. Он окликнул:
— Анка. — Потом еще раз: — Анка.
Она не сводила глаз с лампочки.
Варшавский рванул марлю — Нина не отвела глаза.
Он наклонился к ней:
— Неприятно, мешает?
Она не ответила, смотрела.
Хамадан вышел из палаты, он попросил проводить его к Дееву. Сел рядом с койкой.
— Нельзя к этому привыкнуть.
— И хорошо, что нельзя, — ответил Тарас, — привычка — это смирение.
Сегодня боль донимала его, не отпускала ни на минуту. Он видел, как прошел Хамадан в палату к Нине, ждал его. Если б знали здоровые, как приятно смотреть на них раненым. Красивый, темноголовый человек давно полюбился всем приморцам.
— У него самообладание дервиша и вулканический темперамент, — шутил генерал Петров. — А имя украл у персидского города — Хамадан. Недаром же исколесил он Восток. А все, что мы вобрали в те годы, теперь пригодилось в Севастополе.
Петров долго служил в Средней Азии и слыл знатоком Востока. Он часто встречал Хамадана на переднем крае, то в дивизии Гузя, то у Потапова, на Малаховом кургане, на кордоне Мекензи и охотно беседовал со смелым журналистом. Все это Тарас знал от самого Петрова.
Но с Хамаданом свела комиссара Нина, она притащила журналиста к Дееву еще под Одессой, сразу после тяжелого боя. Нина держала Хамадана за руку и просила Деева разрешить очень важный спор:
Читать дальше