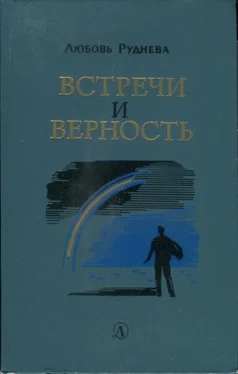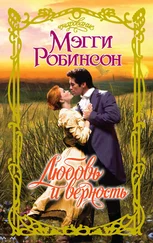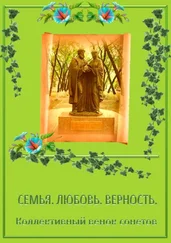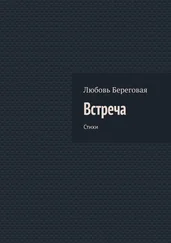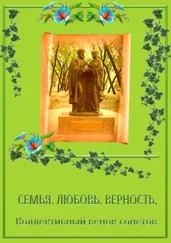На какой-то момент показалось — есть просвет в живой, слоистой стене казары. Уж очень неожиданно и яро поливал комиссар прущего на него врага.
Я совсем ослаб от потери крови, но и не видя рядом Батурина, слышал его голос, захлебывающийся, раненый. Видно, изошли у него пулеметные ленты и одолевал казак, но голос еще вырывался из человеческой груди, и потому до сих пор он тут у меня дрожит…
Хатьков провел сухой, темной рукой по груди и снова погладил лошадь по морде, призывая ее в свидетели той правды, которую он носил в себе столько десятилетий.
«Держитесь! — просил нас Батурин. — Пробивайтесь к Чапаеву, сберегите его! — Это слышал я уже издалека. И снова донеслось до меня: — К Чапаеву!»
Мрет Батурин, а Чапаеву жизнь выкликает!
А вокруг падают курсанты и политотдельцы, молча и со стоном, и слышно даже через стрельбу, как всхлипывает тело, живое тело под шашкой.
И я уже никого не вижу. Глаза мои свечками оплывают, от слабости, что ли, от своей или чужой крови, залившей мне лицо.
Только глухо донеслось до меня, как последний всплеск:
«К Уралу… К Чапаю…»
И так мне жить захотелось, что вслепую я кого-то мял и крушил. Очнулся я на крутом берегу Урала, глянул вниз: широкая, быстрая река притягивает и пугает, а я и плавать не умел.
Хатьков повернулся, показал в сторону Солянки и сказал сокрушенно:
— Разве в такой реке научишься? Но толкало меня вперед — думаю: «Пускай меня лучше рыба съест, чем казак загрызет, — живым не дамся!»
Крут берег, да смерть еще круче — и я бросился в реку. Совсем обеспамятел, а Урал нес меня. Может, ногами я себе помогал, может, и руки гребли, только подробности моего спора с водой ушли в туман того страшного дня.
Дожил я до противоположного берега. Вылез. Ничего на мне нет, кроме ран. Голый, только на шее висит маузер. Так и пошел в чем мать родила, ноги плохо гнутся — мускулы застыли. Потрогал себя рукой — вроде и не солянский я Хатьков, а дикарь пустынный. Хватило меня на несколько шагов, потом залег в кусты, уснул. Проспал минуты две, вскочил. Увидел таких же горемык, как я сам. Набралось нас человек сто, все из разных частей, незнакомые.
Шли, а колючий кустарник за нас цеплялся, будто и он участник казацкого заговора.
Мы молчали, торопились к своим, и ничего меня так не тянуло за душу, как голос Батурина:
«К Чапаеву, друзья! Сберегите его!»
А где Чапаев? Про это вслух разговору не было, но каждый тогда думал: вырвался комдив, иначе и быть не может. Вырвался, перемахнул волжанин Чапаев через Урал. Ведь пловец он, как и кавалерист, был отменный, а сноровки чертовской, это даже казаки в своей лютой ненависти признавали.
Торопились мы, думали, вот-вот встретим Чапаева, пойдем обратно — поднимать раненых, хоронить мертвых.
И только наверняка чувствовал я: уже нет в живых Батурина. Но и полумертвый не о себе кричал он — о нас, о Василии Ивановиче.
Последний в жизни Чапаева комиссар изрублен. Но вся степь его слыхала: и те пять тысяч, что легли в Лбищенске — в степь вошли кожей и костьми, и те, что спасены были Уралом.
И, умирая, просил Батурин о верности, и через это никогда нельзя его забыть.
Накануне Алимджан Аскеров позвонил в гостиницу «Уральск» и с едва заметным акцентом сказал:
— Получил я, Глеб Тарасович, весточку из Солянки, от Хатькова, просил он повидаться с вами, пожалуйста, я готов. Завтра суббота, встретимся за Ханской рощей, как Урал с Чаганом, — побродим, поговорим.
В Ханской роще хозяйничал октябрь. От ветра, что дул от реки, от птичьего взлета и взмаха руки пробегали шорохи. Вспыхивали красным и желтым опаленные зноем верхушки деревьев. Глеб услышал быстрые шаги, будто всплески. Алимджан шел навстречу — смуглая кожа, яркий блеск глаз, прямая спина. Он крепко пожал руку и метнул быстрый взгляд из-под седоватых широких бровей.
— Большое путешествие вы задумали. Выйдем к реке, — сказал он без перехода, увлекая Глеба за собой.
Они бродили до ночи и говорили, иногда молчали. Алимджан первым нарушал молчание, тихо, почти про себя, напевал по-казахски. Наверное, и не замечал, как начиналась в нем песня, — давняя привычка думать напевая.
Он понял, как затронула Глеба судьба Батурина, но, видно, про встречу с комиссаром говорить ему было трудно, и только, когда возвращались они в Уральск и Глеб уже не мог видеть лица своего собеседника, Алимджан неожиданно заговорил о себе, о своем детстве:
— Я вырос на Бухарской стороне, в маленькой юрте — темной и грязной.
Читать дальше