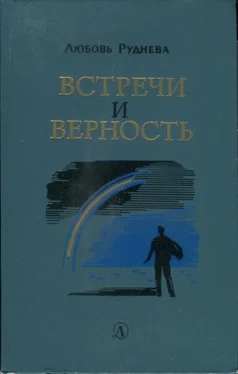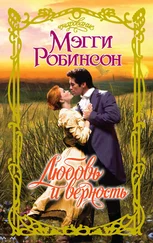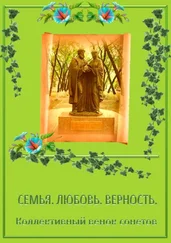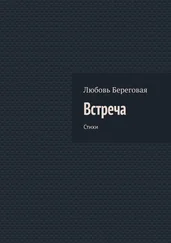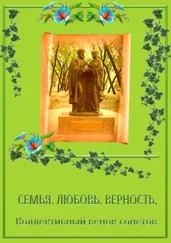Но и признав нас, как этого требовал устав, они не переставали удивляться простоте обращения Максимова и задавали мне по тысяче вопросов на день.
В первом бою они вели себя чудно: вставали во весь рост, сбивались в кучу, причитали над ранеными, плакали над убитыми. Нетерпеливые, они не хотели рыть окопчики, и трудно было им сохранять спокойствие и молчание. Но уже во втором бою их нельзя было узнать — они беспрекословно слушались Максимова. И все-таки, хоть Исмет командовал только одним взводом, смотрели на него преданно и повиновались даже движению его бровей.
А Исмет, лежа рядом со мной в одной цепи, под обстрелом колчаковцев, придирчиво спрашивал:
— Ты, комиссар, коммунист?
— Коммунист.
— Ты давно коммунист?
— Давно, — отвечаю.
— Сколько месяцев?
— Семьдесят два месяца, Исмет.
— Ты где стал коммунистом?
— В Саратове, в депо. А что ты ко мне пристал, как на исповеди, Исмет? И норовишь допрос вести под пулями.
— Под пулями врать не будешь, комиссар, а мне это и надо.
— Разве комиссар врал тебе?
— Я ж с тобой не рос, комиссар, а ведь ты тоже человек как человек, я должен тебя проверить.
И хотя мне было не до смеху, я рассмеялся.
— Веселый ты, — говорю, — человек, Исмет.
А сам думаю: вот теперь в перестрелке и получу пулю в лоб или в затылок. Я ведь с Исметом не рос, кто его знает, чего он хочет.
Но Исмет и все его товарищи, как один, поднялись в атаку. Ко второму бою их было уже не триста, а меньше. После того боя наш батальон опять понес большие потери, но теперь татары вели себя с достоинством бывалых воинов.
В третьем бою их надо было уже сдерживать — так рвались они в атаку. А когда командир батареи Михайлов обстрелял цепи врагов, залегших в рощице, татары потребовали:
— Ну, товарищ военком, хади в атаку. Хадим быстро, берем казака, берем каней, и у-у-у-у верхом… всем батальоном на Колчака… у-у-у-у на большого бандита Колчака. Он еще не знает, как татарская рука его будет рубить: за Уфу, за казнь татарина Исмета, отца нашего Исмета. Мы же все — триста братьев, самых родных братьев, сына коммуниста Исмета — Исмета Исметова.
Поезд миновал Семиглавый Мар. Глеб увидел в окне вагона, как выгнулся высокий сырт, поднял свои головы-горы, безлесые, сиренево-дымчатые от жары. «Мар» по-казахски — волшебник, пропустил мимо себя поезд, и все оказалось просто: станция как станция — незатейливый домик, название «Семиглавый Мар», а не «Подступ к Уральску».
И все же недавно, всего несколько десятилетий назад, тут по степям вились армейские дороги к Уральску, и не раз, не два одолевали их люди, дорогие Глебу, а многие так и не одолели, и последнее, что увидали они, было семь голов Мара.
И за Уральском тянутся степи, где что ни шаг — жизнью плати: Лбищенск, Калмыково, Сахарная, Гурьев.
Ранним утром этого дня Глеб встретил на дороге к Озинкам конюха Хатькова. Сгорбленный, с коричневым морщинистым лицом старик сросся со степью, стал ее памятью и совестью. И хоть теперь Глеб ехал на поезде к Уральску, а конюх на карей кобылке возвращался в свою Солянку, будто все сопровождал он Глеба, хоть и не спешил, — лошадь его шла шагом, чуть впереди табунка.
Утром, сидя на лошади, перебирая поводья, Хатьков вдруг сказал Глебу:
— А что другое рассказать могу, про одну ночь — лбищенская она! Такая большая — и в год не обхватишь. Уж от нее откатило меня на тридцать восемь лет, а все нет-нет, припомнится, как нонешняя.
Близко в ту ночь столкнула меня беда с последним комиссаром Чапаева; всякие бывают знакомства, но это в смертный час пришло.
Хатьков вдруг сдернул шапчонку с головы, и его мягкие, тонкие волосы приподнялись вихрами на степном ветру.
Глеб увидел светлые маленькие глаза, затуманенные воспоминаниями.
— Дай представлю тебе все по порядку. Вел нас Чапаев от Уральска к Гурьеву совсем обгорелой степью. Казаки жгли ковыль, травили колодцы, падаль в них швыряли, угоняли живность. Сверху било нас солнце — от его ударов падал люд и скот. Одной перетрепанной дивизией растянулись мы на долгую степь: воевали и по правую сторону Урала и на Бухарской стороне.
Втянешь ноздрями воздух — степь гарью воняет. Пот разъедает тебя, вошь поедом ест. Губы трескаются — подай воды! А где ее напасешься?! Глаза налиты кровью — режет, и тиф через одного валит.
Казак за каждую станицу дает бой не на живот, а на смерть. Антанта ему в руки вкладывает новенькую английскую винтовку: «Убей красного армейца! Твоя, казак, степь, моя, антантина, нефть». У каждого врага свой барыш. А нам кругом смерть сеют. Ногтями вцепились казаки Толстова в станицу Сахарную — не оттащишь. Брала ту несладкую станицу кутяковская бригада, а в обход двигалась Семьдесят четвертая.
Читать дальше