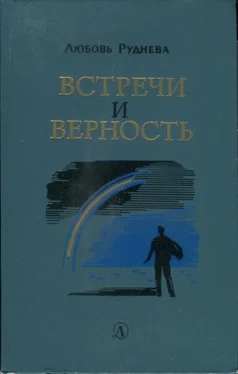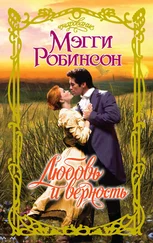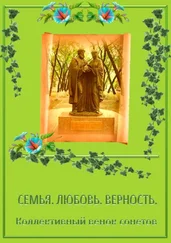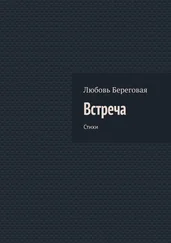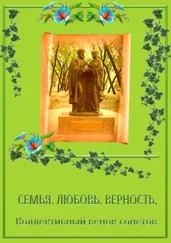Фигурки выросли перед нами, вблизи это оказались три мальчика и маленькая девочка. Они бросились обнимать Марию — я отвернулся: мне хотелось к своим детям, к жене.
Но кто-то дернул меня снизу за полу шинели, я вздрогнул от неожиданности и чуть не вскинул винтовку. Взглянул и увидел худенькую девочку. Она протягивала мне в тряпице картошку:
«На. Я тебе оставила мой обед, только чуть-чуть откусила…»
Четыре фигурки побежали вниз по насыпи.
И вот весной я и Фере очутились в поезде. Мария нас провожала. Мы не могли поверить своему счастью и твердили: «Домой, домой!»
Мария наклонилась к Фере, сидевшему на ступеньке вагона, и сказала:
«Мой муж в Венгрии, в плену. Если встретите — передайте…»
Мы уже выучились от нее многим словам, но что велела она передать мужу, я не понял. И Фере не понял. А поезд тронулся.
Фере смотрел на Марию, и она смотрела на него — наверное, в последний раз.
За семь дней мы добрались до русских окопов, совсем близко были окопы австро-венгерцев. Русские пропустили нас беспрепятственно. Что пропустили? Они еще подбадривали, совали трубки, кисеты, сахар, приговаривая:
«Поклон женушкам и деткам!»
Это была хорошая ночь, теплая. Пахло землей. Когда так пахнет самой жизнью, хочется обнять жену, прижать к себе детей. Фере меня обгонял. Его стройная фигура будто светилась, разрезая ночь, он шел легко, торопился. Для этого у него были все основания: женился он перед самой войной, и уже без него у Эльги родился Фере-младший. Потому-то друг обгонял меня на шаг-другой. Впрочем, я тоже спешил: ведь и я думал — еще день, обниму моих дорогих и вместе с молодой женой и матерью выйду в палисадник перед домом. Весной и крохотный клочок земли просит: вложи в меня семена. Я шофер, но разве я меньше люблю землю, чем мой отец — старый пахарь?!
Какие же мы с Фере счастливчики, что так быстро добрались до своих окопов! Я слышу частое дыхание моего друга, он чуть запыхался, не от быстрой ходьбы — от волнения, будоражащего кровь. Мы и капли вина не выпили, а чувство хмельное и стучит, стучит в висках: «Дом рядом, дом твой рядом».
«Стой, стой! Кругом!»
И снова немецкая команда:
«Назад!»
Но Фере радостно закричал над притихшими окопами:
«Свои, не стреляйте!»
«Назад!»
«Мы возвращаемся из плена, — продолжал кричать Фере на отличном немецком языке, — прапорщик Фере Петери и…»
Но его перебил пронзительный гортанный окрик:
«Назад!»
Фере не мог поверить этому голосу: слишком близко был дом, от которого еще недавно отделяли его тысячеверстные расстояния, изнурительные месяцы войны и плена. Как и я, Фере знал, что на фронте происходит братание солдат, он не мог поверить зловещему голосу и шел на него еще быстрее, чем раньше. Шел и говорил, громко объясняя окопам и ночи чудо своего возвращения на родину, к милой, к ребенку, единственному Фере-младшему:
«Я восемнадцать месяцев провалялся в этих окопах, теперь домой из русского плена. У меня…»
Он не докончил.
«Огонь!» — рявкнул немецкий офицер.
Грянул залп, за ним другой, третий. Я увидел яркий полет раскаленного свинца. Их было пятнадцать, может двадцать вспышек, и Фере рухнул рядом со мной. Я стоял во весь рост, пытаясь через ночь разглядеть окопы, за которыми была моя родина. Но у моих ног на земле бился Фере, и я опустился на колени, обнял его, прижал к своей груди. Это продолжалось одно мгновение.
«Аве Мария», — прошептал мой Фере.
Я бежал в обратную сторону от своего дома, проклиная нашу наивную веру в то, что можно мирной тропой дойти до своего порога. На этом пороге лежит убитый Фере. Назад! Я бежал и почему-то жаловался Марии, женщине с широко открытыми, грустными глазами.
Потом я отсыпался в русских окопах и, возвращаясь в Москву, все вспоминал, как, приходя к ограде нашего лагеря, Маруся протягивала Фере в серой тряпице картофелины и, пока он жадно ел, приговаривала:
«Ешь, горемычный, ешь, дитё».
Она, молодая женщина, называла его дитём. Теперь это венгерское дитё убито из немецких окопов, и я осиротел еще больше.
Я добрался до Москвы и поздним вечером разыскал нашего венгра Бела Куна. Он должен был дать мне хороший совет — ведь именно в этом я нуждался вдалеке от родины.
Мы ходили по плохо освещенным узким улицам. Бела слушал меня. Я рассказал ему все: про картошку Марии и смерть Фере.
Мы прощались с Бела под тускло горевшим старым фонарем, такие фонари освещали и мое детство. На меня внимательно глядели большие глаза, заполненные тревогой и этой ночью, — глубокие темные глаза Бела Куна.
Читать дальше