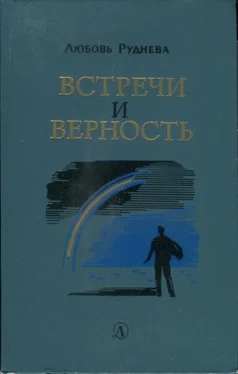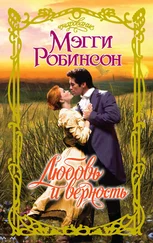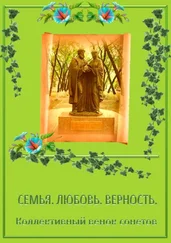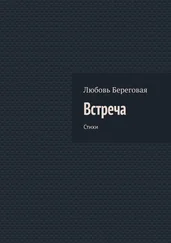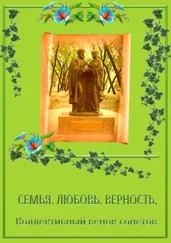«Ей прохладно, она простудится, — и кутал ее в брезент, — она расстроится».
Мы сердились:
«Подумаешь, барыня какая: «простудится, расстроится…»
«Если я что-нибудь не понимаю, я или стараюсь понять, или молчу, а вы-то что?!» — сердился Янис.
«Да ты ж учитель — значит, и должен понять все, и растолковать, а мы в семинариях не учились».
«Чтобы ее понять, нигде не надо учиться». — И он вынимал ее, маленькую, по правде сказать, хорошенькую, и играл нам.
Он всегда объявлял, что играет, но уже после того как кончал исполнять вещь. Говорил он глухо, с акцентом и важно. Так важно, что мы не осмеливались шутить.
«Мелодия Глюка».
Эту мелодию я запомнил и научился высвистывать. Яниса это раздражало. Он меня обрывал и говорил:
«Мне тяжело, лучше пусть пулеметы лают».
У нас были разные вкусы.
Но постепенно мы тоже привыкали к скрипке. Напоемся на привале до хрипоты, напляшемся гудящими от ходьбы ногами и сразу рухнем. Тут Янис вынимал свою тонкоголосую. И слышали мы от него такие непонятные слова: ноктюрн, этюд, Шуберт, Мусоргский, Глинка.
У Чишмы Яниса смертельно ранило в живот. Он лежал в крови, весь в поту от боли. Скрипку размозжило. Янис видел это еще до ранения.
Мы не могли его стронуть с места, и смысла не было.
Я наклонился над ним, попробовал что-то соврать. Янис выругался и сказал:
«Заткнись!»
Он стонал и потом позвал меня.
«Слушай, — сказал, — свисти мне, свисти!..»
«Что?» — испугался я его бреда.
«Мелодию Глюка».
Я свистел. Он стонал. Но когда я замолкал, он, ругаясь, просил:
«Свисти же!..»
Так он и умер под мой свист.
Укостра, скрестив ноги, сидел уже немолодой боец, чернобровый, со смуглым продолговатым лицом и пышными усами. Он смотрел не отрываясь на огонь, чуть покачивался, и по его лицу пробегали блики.
Заговорил он неожиданно. Мы тянули из кружек кипяток, вспоминали про сахар и вдруг услышали:
— Есть корка.
Не торопясь боец вынул из сумки большой белый платок, развернув его, он ловко сильными пальцами надломил корку, разделил на равные части.
— По глотку сухого хлеба, — сказал он радушно, протягивая на чистом платке свое угощение.
Мы взяли молча.
Сызранский Евлампий рассмеялся и, проглотив птичью дозу, попросил:
— Теперь твоя очередь рассказывать.
— Не сумею. Если по порядку — многовато, а если вперемежку, то у меня ничего особенного нет. — Он показал на голову, потом на сердце.
— А ты валяй про себя, — предложил кавалерист. — Как-никак, лет за тридцать прожил, смерть за косу таскал, а живой!
Боец обвел всех глазами, кивнул головой, но, видимо, что-то мешало ему начать рассказ.
И снова пришел на помощь кавалерист:
— А ты сам откуда?
— Я из Иваново-Вознесенска, — ответил боец с тем особенным акцентом, по которому сразу отличишь венгра от поляка или чеха.
Мы переглянулись.
— Вы, ребята, не поняли; я был житель той стороны как военнопленный, бывший. Не из «бывших». — Тут он улыбнулся, неровные крупные зубы сверкнули из-под пышных усов. — К нам приходили ткачи, принесут то хлеб, то котелок супу и смотрят голодными глазами, как мы едим. Среди них была большая, сильная Мария. У нее в тряпице для меня и моего друга Фере было припасено несколько вареных картофелин. Она протягивала нам картофелины, и это волновало меня и его, как письмо из дому.
Сразу после февраля мы взяли у Марии красные ленты и прикрепили их к шапкам и сердцам — так мы стали красными гвардейцами. Однажды вечером принесли нам винтовки. Фере бросился к трехлинейке, проверил затвор, долго взвешивал на ладони патрон. И хотя керосиновая лампа горела тускло, я увидел на глазах у гонведа [6] Го́нвед — защитник отечества ( венг. ).
слезы: ему доверили оружие.
Я сторожил железную дорогу, и две ночи вместе со мной несла караульную службу ткачиха Мария, высокая, полногрудая, с лицом курносой богоматери и очень крепкая на слова.
Когда кончилась вторая ночь и начинался рассвет, из-за насыпи показались четыре фигурки.
Я закричал:
«Стой, кто идет?»
Мария рассмеялась, а маленькие люди пригнулись и побежали к нам.
«Стрелять буду, стой!» — закричал я.
Но Маруся знала много крепких слов, и часть из них она успела сказать мне, а потом постучала себя кулаком в грудь и повторила несколько раз:
«Разве не видишь — дети, дети!»
Я понимал слово «дети», ведь интереснее этого слова я не знал ничего. У меня самого двое детей, они живут в Сигеде и давно уже не слышали обо мне, как и я о них.
Читать дальше