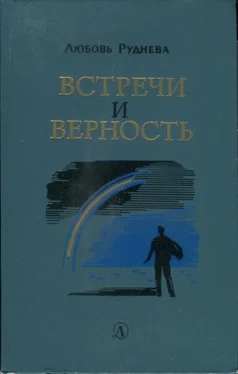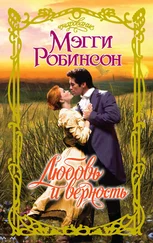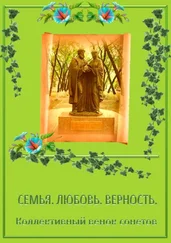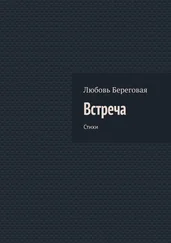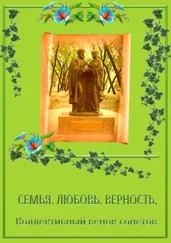Он провел небольшой ладошкой по бритой голове, обдернул гимнастерку, спросил, где я размещусь в Уфе, аккуратно обернул отдохнувшие ноги портянками и с сожалением всунул их в большие сапоги. Разговор оборвался.
Так вот на фронте и случается: ходит человек молчок-молчком, а потом вдруг прорывает плотину. И не сотрясение, извне пришедшее, не опасность, а тишина, отдых вышибают пробку молчания, и ты ходишь ходуном, распирают тебя всякие мысли. Топорщишься, как набитый карман, одолевают желания, ну и слова, конечно, про все, что знал, изведал или даже слышал.
— Слушай, Ситцевый, — сказал я, чувствуя, как паренек этот странный забирается мне в душу, — жалко будет, если мы больше не встретимся.
— Но ты ведь обещал приехать в наше Иваново, только не путай, у нас говорят не ситцевый, а ситцевик, а то, смотри, засмеют.
— Нет, — ответил я, — Ситцевый, это я от души тебя.
И про себя подумал: так поласковее. Было у меня такое чувство, будто вместе с ним воевал, спал под одной шинелью. Я даже о боли позабыл, хоть чертов коготь Колчака скребся в моей правой ноге.
Поглядел на паренька и рассмеялся. Уселся он опять боком ко мне, глядит на деревья, задумался. Над нами раскидистая старая липа замерла от жары, на противоположной стороне широкоствольная, ветвистая тоже стояла не шелохнувшись.
Сперва показалось мне смешным, как пялит паренек свои синие глаза на липу, но нога болела все сильнее и приходили мысли не то чтобы совсем грустные, но странные — оба могли мы стать частью уфимского холма, а через год-другой вошли бы в медовую силу липы. Тоже хорошо, может, но так, как сейчас, лучше: познакомились, поговорили, теперь молчим.
А мимо гуляет рабочая, мастеровая Уфа в обнимку с красноармейцами. И все гремит и гремит духовой оркестр «На сопках Маньчжурии» и еще марши, и вальсы, и всякое другое. И кружение медных труб, и летнего зноя, и листьев…
И я все улыбался, потому что паренек хоть и знает много и говорит удивительно складно, а зеленый-презеленый. То-то он все так и торопился выложить о друзьях-товарищах. Да и моложе меня он наверняка. Щеки у меня хоть и ни разу не бритые, а все же темные и покалываются, а у него гладкие, с прозрачной кожицей. И стало мне отчего-то неловко, будто я подглядываю за ним. Но странно: чем более неловко, тем приятнее, свежее на душе.
Вернулся Шурка, он появился неожиданно, сзади и затормошил нас:
— Пройдемся, а то закисли, подкованные.
— Куда это пугачевец пойдет? Посиди, а я мигом вернусь, только Марусю отыщу.
Шурка уселся, закурил самокрутку, я глядел вслед пареньку.
— Какую, — спрашиваю, — Марусю пошел искать твой братишка?
Шурка отвечал охотно, но голос у него не такой чистый и ясный, как у брата, и я это замечаю.
— Маруся — подруга, добрющая.
Непривычное слово, и беспокойно, что мои новые приятели интересуются подругами, а у меня никого нет, кого и я мог бы так назвать.
— Какая же у вас может быть подруга? — обижаюсь я уже вслух.
— Самая настоящая.
— Может, вы жениться собрались?
Шурка рассмеялся:
— Нам рано, Марусе поздно. И не для того мы здесь.
— Почему же ей поздно?
— Понимаешь, — сказал Шурка, жадно докуривая, обжигая себе пальцы, — лет ей не так много, но дома она оставила четырех детей. Вот и мается. В походе, как мы, и стрелок что надо, только сперва чуток мазала. Но ночью белугой ревет. Все спят да похрапывают, а она мечется. Мы и стараемся около нее держаться — ведь не чужие. Один раз я ей сморозил: «Мария, ты только скажи, тебя сразу домой, в Иваново, вернут, семья же большая и мужа нет». А она прикрыла мне рот рукой и так обидно ответила: «Да разве сам ты не ребенок еще, а ведь туда же в кровь да в смерть ступаешь, так неужели я слабее вас, детей, окажусь?!»
Добрая — ничего не жалеет. Пришли в село, разоренное казаками, там молодка — жена убитого сельсоветчика — разута, раздета. Маруся сняла свой платок с груди — в холодную-то пору! Рубаху чистую разорвала на бинты и свой паек оставила. И все тишком, даже мы еле приметили. А когда мы ушли из села, она мне сказала: «Вот, Шурка, колчаки рвут нас в клочья, детей в снегу замораживают, а я, по-твоему, сиди за печкой и соглашайся с этим?! А по-моему, раз ты коммунист — все лихо на себя принимай, ничего на чужое плечо не вали. Тогда нас никто не измызгает!»
— Чудные вы, — говорю, — и очень любопытные, — все чужие дела знаете.
Шурка посмотрел на меня снисходительно:
— Что с тебя, парень, возьмешь? Разве чужие это дела? Только наши. Мне вот иногда не так уж весело, а около Маруси Рагузиной побуду — и самое тяжелое как рукой сняло. Нет в ней ни одной жалобы, только жалость к людям. И Маруся Рябинина схожая с ней была, — добавил Шурка печально.
Читать дальше