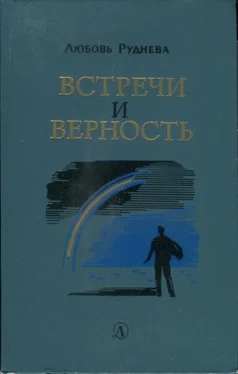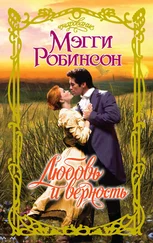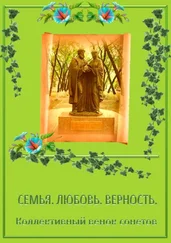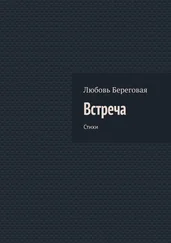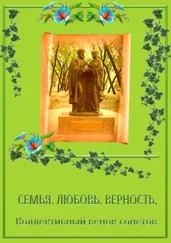Ввечеру Чапаев подходит к нам, шутит:
«Если я в бою не побываю, с аппетитом не покушаю».
И уселся с нами кашу доедать. Знал ведь, первый бой не шутка — чего только в душе не всколыхнет. Но об этом разговору не было, одно только понимание между нами. Так ведь для этого и нужны близкие сердцу люди.
А что другое рассказать могу — оно более печально. То был мой первый бой, а я помню и последний бой Чапаева. Да нужно ли это трогать?
* * *
На станции Озинки суматоха; командированные торопят кассиршу, осаждают ее отпускники, колхозники — казахи и русские образуют пеструю, шумливую толпу.
Глеб едва успел вскочить на подножку вагона, и поезд тронулся. Через несколько часов — Уральск.
Шофер Сельванов махнул Глебу своей замасленной шапкой, последний привет от села Нижняя Покровка.
Мелькнули смуглые лица маленьких казахов, выбежавших к поезду, казашек с белыми платками на черных волосах.
Глеб вошел в вагон. За окном степь, высокий сырт, вдалеке прорисовываются отроги гор. Глеб забрался на вторую полку, вытащил из рюкзака записную книжку отца.
Книжка Тараса, которую Глеб держал теперь в своих руках, существовала только в одном экземпляре, но с ее страниц возвращались люди. И первым среди них был сам Тарас. Он не покидал сына.
Упереправы через Белую ранило меня с воздуха.
Осколок вонзился в голову Чапаева, я стоял поодаль: только что привез ему донесение, секунда — и сам рухнул, как степной заяц, с подбитой ногой.
Несколько дней пролежал я под командой Дуни, жены Петьки-Чеха. А на высоком берегу Белой шли бои, оттуда притаскивали раненых, от них узнавал я подробности сражения, рвался обратно.
— Какой в тебе толк, в подбитом, — урезонивал меня обросший до глаз ивановец, — вот если бы ты был патроном — дело другое.
Я уже знал все, что произошло с Иваново-Вознесенским полком.
Снова и снова поднимались они, отбивая атаки каппелевцев, но не хватало патронов. Даже в бреду Ивановны оглушительно кричали: «В штыки!», умирающие просили пить и шепотом настаивали: «Подбрось огоньку»…
Я же не был ни патроном, ни снарядом, ни даже зарядным ящиком.
Потом наши взяли Уфу, и раненых перевезли в город.
Я удивлялся мирной сутолоке на его улицах, открытым окнам, веселеньким занавескам, хрипу граммофонной трубы, торчащей из окна облупленного розового домика. Через несколько дней, несмотря на протесты Дуни, я, вооружившись толстой тростью, где-то добытой для меня Петькой-Чехом, отправился в городской сад.
И кто только не гулял здесь: ребята с Волги, парни с Большого Иргиза, и я в их числе, сызранцы, Петька из Праги, Иштва из Будапешта, маленький китаец — всех и не перечислить. И девушки в светлых платьях — розовых и голубых, белых с оборочками, в кубовых юбках, с длинными косами, с лентами в волосах, смеющиеся, задиристые и тихие.
Городской сад гремел духовой музыкой, бегали уфимские мальчишки, пуская зеленоватых змеев, лузгая семечки, без умолку говорили уфимские кумушки, забредшие в сад поглазеть на веселье.
Совсем рядом, касаясь меня своими широкими юбками, локтями, проходят девушки. Обернулась большеротая, черноглазая и не то с любопытством, не то со страхом наблюдает, как я медленно бреду, припадая на правую ногу.
Я отказался от костылей. Знаю ведь по опыту — на них легче передвигаться: упор — и скок, упор — и сажень позади, а тут еле-еле ползешь и пот градом катится, но среди гуляющих мне тоже хочется иметь беспечный вид и я перемогаюсь. А слабость одолевает, и я почти валюсь на первую попавшуюся скамейку.
Растянуться б на траве — она здесь сочная, густая. Закрываю глаза, слушаю гул — это в ушах.
Рядом тихий, окающий голос:
— Смотри, раненый заснул.
Другой, чуть погрубее, ответил, так же окая:
— Умаялся, на одной ноге скакав.
Я открыл глаза. Рядом со мной присели двое парнишек: бритоголовые, синеглазые, схожие меж собой, в выгоревших, белесых гимнастерках и больших растрескавшихся сапогах.
У того, что повыше ростом, — шире плечи, крупнее черты, особенно нос с резко очерченными ноздрями, чуть оттопырены уши. Он слушает меньшого, не сводя с него глаз, да и я, признаюсь, уже заинтересован.
Круглая, мальчишеская голова, тонкая шея со светлым, золотящимся пушком на затылке, локти упер в колени, склонил голову, а сам одним правым глазом, синим, разглядывает меня. Неожиданно спрашивает — голос грудной:
— Больно ступить на ногу?
Читать дальше