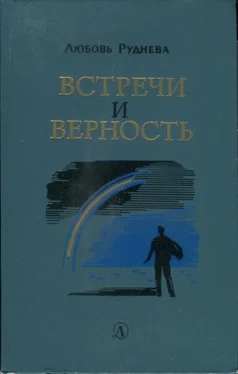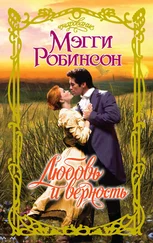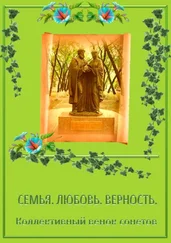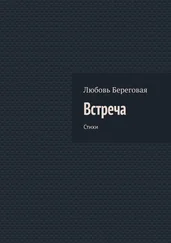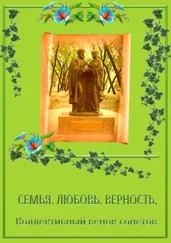Чапаев перебил:
— Смею, потому что Рейн-река известна каждому мальцу, а тем более разведчику русско-германского фронта Василию Чапаеву.
В том, как произнес свой ответ Чапаев, было такое чувство собственного достоинства, что даже недобрый Цехович растерялся и оказался посрамленным.
А ночью Чапаева одолевала бессонница. Он сидел на своей койке и, положив на колени полевую сумку, писал письмо. Писал, сбиваясь, делая ошибки, но с доверием и надеждой. Я лежал наискосок от него и невольно следил за старательной рукой Василия Ивановича. Да, пожалуй, и особенных тайн между нами не могло быть — за последние недели мы сошлись близко.
Василий Иванович заметил, что я не сплю, но не отодвинулся, доверчиво поглядывая на меня, писал:
«Много уважаемому товарищу Линдову»…
— Может, вместе напишешь первые два слова?
— Нет, — уверенно ответил Чапаев, — потому Цеховичу я бы адресовал: «Мало уважаемому профессору Цеховичу»…
Комната общежития плохо освещена. Едва написав две фразы, Чапаев поднимается, ходит между койками. Он наклонился над настольной лампой, горящей вполнакала. Кладет на нее руку, удивляется:
— Даже кончик пальца не прогреет. — И тут же спрашивает заинтересованно: — Слыхал, что за человек Линдов?
— Слыхал, — отвечаю, — комиссар Реввоенсовета Четвертой армии — мы же соседи по фронту. Видел его в Самаре, выступал он на митинге. Оратор удивительный, перед ним несколько тысяч, а он беседует, будто с каждым у него разговор один на один. А ты его знаешь? — спрашиваю Чапаева.
— Не знал бы — и писать не стал.
— Почему же, по должности, бывает, и нужно обратиться.
— А я думаю, что должность без только ей подходящего человека — штука опасная. А у Линдова и жизнь, и душа — все для комиссара. Знаю, много ему на меня клепали штабисты из бывших, а он привык сам до всего докапываться, чтобы лучше для Революции выходило.
Был я у него раз-другой — поверил после первого разговора, все, что думал, выложил ему.
У него для себя нет хоромины. Хоть живет в Самаре, а как в походе. За ширмой в кабинете койка. Нет хлебов отдельных. Сахарком богат на кусочек, ты его и получишь, раз гость. Спрашивает с тебя, но и ты задай ему вопрос, ответит без утайки. Его касается и вся армия, и каждый в ней.
Жизнь его до седого волоса прошла на людях. Сызмальства он в Екатеринославе среди рабочих, выучился на врача, а революцией не переставая занимался с прошлого века и в Туле и в Париже, потому она всюду нужна. Под далеким городом Парижем у Линдова бывал Ленин. Подробно про комиссара армейского рассказала мне московская работница Клава, ей пришлось узнать близко и Линдова, и его детей, говорит: даже дочери в него — все для людей, ничего для себя.
Конечно, ему многие писали, ну и моя очередь пришла. Оказывается, Чапаю нужна помощь, и самая быстрая. Вот если бы все комиссары на него похожи были или на самарского Галактионова. Тот у нас комиссаром Первой дивизии был — тоже душа!
— Но нет для меня противнее человека, — сказал Чапаев, снова усаживаясь за письмо, — который должность во вред делу поворачивает… А вот Линдов!..
Чапаев задумался, потом написал страничку. Отложив письмо, снова зашагал по комнате и с ожесточением ткнул пальцем в тлеющую лампу:
— Даже не обожгла, проклятая!
И вышел из комнаты, нахлобучив папаху.
Со своей койки я видел письмо Василия Ивановича, оно лежало на подушке. Прямые буквы выведены просто, без выкрутас и только «Б» и «Д» чуть завивали мачты, как учили нас по правилам каллиграфии в начальных классах, — почерк доброй, открытой натуры.
Оно и сейчас перед моими глазами, то письмо: признание, просьба тоскующего в бездействии Чапаева.
Ему казалось кощунственным в ту военную зиму девятнадцатого года жить в Москве, далеко от фронта. Детская бесхитростность, даже беззащитность сквозили в каждой строке этого письма. И видимо, велико было доверие Чапаева к своему армейскому комиссару, если он так безоговорочно вверял ему себя.
«Прошу вас покорно отозвать меня в штаб Четвертой армии, на какую-нибудь должность — командиром или комиссаром в любой полк».
Нет, в этом письме не было и тени гордыни. Равно святой для Чапаева была любая служба в своей армии; как коммунист, он готов был нести ее в качестве комиссара; командовавший дивизией, он не просил такого же назначения — лишь бы быть в действующей части, других помыслов не было.
«Преподавание в академии мне не приносит никакой пользы: что преподают, я это прошел на практике. Вы знаете, что я нуждаюсь в общеобразовательном цензе, который здесь я не получаю. И томиться напрасно в стенах я не согласен, это мне кажется тюрьмой. И прошу еще покорно не морить меня в такой неволе. Я хочу работать, а не лежать… И если вы меня не отзовете, я пойду к доктору, который меня освободит и я буду лежать бесполезно, но я хочу работать и помогать вам.
Читать дальше