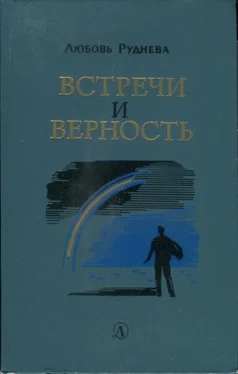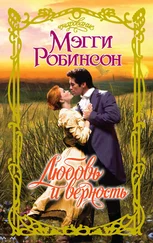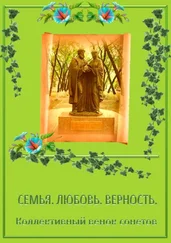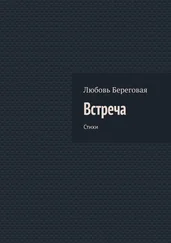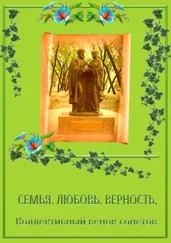— Боимся, как бы Федина рука не потеряла силы. Каляльщик он, руки у него должны быть свободные. Война ж кончится, достанем хлопок, каждый захочет домой, и Федю потянет к детям, к работе — на свое место. А вдруг рука пропала?
Ивановец взмахнул руками, будто готов был их подарить искусному калильщику — Федору.
— А уж какой спорый был. Колдует над огромным чаном, материя непрерывно падает, и, чтобы ей аккуратно в чан угодить, Федя калял. Палочкой подхватит и укладывает. Так раз тысячу в день взмахнет, а от ленты пар валит, из чана шибает то кислотой, то щелочью.
Говорил Федор, вернувшись из германского плена (там пришлось ему работать на шахте), что ситцевику тяжело, как шахтеру. Многие и таскают в себе чахотку.
Я молчал, пристыженный. Что знал я до этой войны? Про отца, свой голод и обиды, как пас овец, про сулацкую голь перекатную да еще кое про что.
А малец со сбитыми ногами носил в себе свое Иваново — большущее, фабричное. В его улье судьба одного, видно, касалась всех ситцевых шахтеров.
Парень все вел и вел меня по ситцевому аду, не отпуская ни на миг. Будто хороший командир, он знал подноготную каждого красноармейца.
— Может, ты ротный? — пошутил я.
— Нет, — серьезно ответил он, — обычный политбоец, везучий только. Много наших полегло за Уфу, я ж и царапины не имею, а вот друг мой, пулеметчик Никита, принял в себя четыре пули каппелевцев. На войне и такая несправедливость получается. — Паренек повернулся ко мне всем чистым своим лицом, чуть-чуть веснушчатым у переносицы. — А ведь Никита — лучший пулеметчик. Когда за Турбаслами каппелевцы надвинулись офицерской цепью, он подпустил их вплотную. У каппелевцев, видно, уговор был — идти на нас молча, бить в упор. За первой цепью двигалась вторая, за нею — третья, и в жуткой тишине. Уже совсем рядом их лица: мокрые, бледные, пьяные. Никита не шелохнулся. И пулемет его выжидал. Выдержка роклиста — железо! Да ты ж его видал: Никиту унесли вместе с Федей, он кричал, в беспамятстве мерещились ему светящиеся жуки.
Я припомнил черноголового, худощавого бойца, он и в бреду требовал ленты для пулемета. Иногда кричал:
«Выключите мотор, опять жуки ползут…»
Ивановец убежденно говорил мне:
— Никита — человек особенный. В Уральске обучал его бывалый солдат и подшучивал: «Где тебе с узорчатого ситца на пулемет!» Никита отрезал: «Пулемет чувствует рабочие руки и послушается, а вот узор на ситце действительно души требует, так я б тебя даже в ученики не взял: больно смешлив и нелюбопытен, ругаешь то, о чем понятия не имеешь».
Роклист многое знает. День и вечер он простаивал у высокой машины. Заправит ее клеем, краской, маслом, а внизу у ног вертится во всем этом рыжий, медный, весь в гравировке вал. Ситец прижимается к валу и лентой уходит вверх. Никита глядит, глаз не сводит с рисунков, а материя тянется и тянется. И цветы тебе, и поля тебе, и бабочки, и горошек, и японская хризантема. А вал медный так и кипит в краске, и на материи, прижатой к валу и от него убегающей, все это расцветает желтым — и так, скажем, на двенадцать часов желтые кружочки расположились. А потом на все шестнадцать — красные горошинки.
Даже здесь на фронте, у Чишмы, Никита мне говорил: «Ночью глаза закрою, а передо мной тянется лента желтого, зеленого, красного — и ночью устаю. Одолевает узор: узор крапчатый, наливчатый, с переборами, с недоборами».
Лицо паренька мгновенно менялось: он то, хмурясь, щурил глаза, а то широко раскрывал их. Синие, они блестели. Морщил нос, вертел смешной бритой головой и тревожил меня своими рассказами.
Он тянул меня заглянуть куда-то за край войны.
— Даже израненный, бил Никита каппелевцев, и в глазах у него не рябило, когда они на пулемет налезали. Только в бреду ему мерещился страшный узор: светящиеся жуки, и он боялся их, просил, чтоб прогнали. Мы охрипли, крича, что ему мерещь в глаза набилась и нет уже каппелевских жуков, но Никита ничего не соображал — ты ведь слышал, как он бредил.
И всего не перескажешь, что наговорил мне ивановец. Хотелось ему, видно, домой, в свои края, но должны были мы взять в Туркестане хлопок и впрыснуть живую воду в его фабрики. А в том, что фабрики теперь его, паренек не сомневался.
— Слушай, — спросил я, — откуда ты все наизусть знаешь? Кто же ты сам? Может, роклист или еще кто на куваевской фабрике?
— Нет, сейчас я мало кто, всего-навсего боец, да и не с куваевской или грязновской фабрик. В нашем полку не все ивановцы, тут и кинешемские, шуйские, вычугские. Городские мы или деревенские, если не с фабрик, то вокруг них повырастали и знаем — все от этих рук! — Паренек вытянул передо мной две крепкие загорелые руки. — Слыхал, как нас Фрунзе зовет? Людьми русского Манчестера. — Паренек покраснел и душевно так попросил: — Отвоюемся, поедем к нам и все по-своему повернем.
Читать дальше