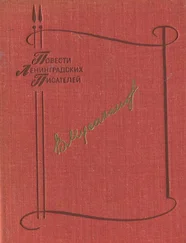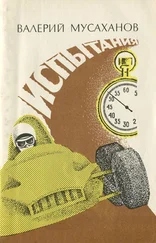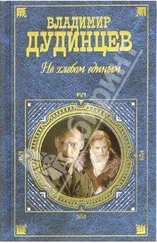— Второй поворот направо после второго светофора, — еле сдержавшись, чтобы не обложить его самой злобной и уничтожающей бранью, ответил я и полез в карман за деньгами.
Машина проскочила Жуковского, зеленым огоньком подмигнул мне перекресток поэтов, ущельем тьмы показался пустынный Басков. Свернули направо, автомобиль чуть занесло на покрытом снежной жижей асфальте, правое переднее колесо ударилось в поребрик.
— Здесь?
— Да, — ответил я, и он затормозил.
Дом мой был еще в сотне метров впереди. Во я никогда не подъезжаю к самым воротам и никогда не называю точный адрес, эта наивная конспирация стала привычкой.
Он щелкнул рукояткой, поставил таксометр на «кассу».
— Держи, — я протянул ему пятерку, взгляды наши скрестились. Боже, как я ненавидел его, этого тупого алчного хама. Ненавидел, потому что он это был я, только в худшем издании. Он тоже хотел построить свое маленькое благополучие на своем хамстве и наглости, как построил я на своем.
Он взял мятую пятерку и, не сдержавшись, радостно осклабился, но не поблагодарил.
— Вот что, мастер, — медленно сказал я, — ты насчет вытолкать будь поаккуратней, а то нарвешься на кого-нибудь, и душу выдернут, а она у тебя и так чуть держится. Счастливо отработать. — Я вылез, захлопнул дверцу и, сунув руки в карманы, медленно побрел в глубь темного переулка. Сделал несколько шагов и услышал щелчок дверного замка. Обернулся. Он уже нагонял меня с монтировкой в руке.
Стало грустно до слез.
Я повернулся и шагнул ему навстречу…
К дому я подходил со стороны Восстания, пройдя на Басков проходными дворами и сделав изрядный крюк. Слегка подташнивало от пережитой вспышки свирепой холодной ярости. Перед тем как нырнуть в подворотню, я поглядел вдоль переулка. Такси на углу уже не было.
Моя машина так и стояла, брошенная во дворе, — вся мокрая, с мутными стеклами. Я даже не подошел к ней. Тусклый свет освещал подъезды, сочился из-за занавесей. Машинально взглянул на низенькое окно Натальи в углу. Оно было темным. И вдруг мне страстно, немыслимо захотелось, чтобы она ждала меня в квартире, — захотелось так, как хотелось в детстве хлеба и счастья. Прибавив шагу, я вошел в парадную, отомкнул почтовый ящик, сунул руку и достал ключи от квартиры. В два шага преодолел шесть ступеней пологой лестницы и нырнул в свою одинокую берлогу. Сначала включил свет в коридоре, комнате и на кухне и только потом стащил пальто и еле-еле добрел до дивана.
Я был еще жив и, кажется, пережил этот немыслимый день.
Часть вторая
Месяц апрель
Я проснулся пустым и легким, словно не было вчерашнего хмеля. И только открыл глаза, как часы на камине стали отбивать шесть.
Если вы значительную часть своей жизни провели в таких обстоятельствах, где многое зависит от того, проснетесь ли вы в нужный момент, то навык этот остается до конца. И вы всегда сможете пробуждаться секунда в секунду в нужный момент.
Протяжный двойной бой, будто качели, сначала возносил чистый бронзовый звук: динь, потом плавно опускал до рдяных медных низов: донн.
Динь-донн — взлеты качелей, ситцевая неброская голубизна весенних русских небес, берестяная скромная свежесть столпов звонницы, луговая равнина, далеко окрест разносящая малиновый звон…
Я любил эти слегка вычурные французские каминные куранты именно за то, что они будили смутные воспоминания довоенного детства. Собственно, даже не воспоминания, но туманные ощущения свежести и простора, предчувствия счастья. Это было самым светлым уголком памяти — мое месячное пребывание в Щербаковке, родной деревне отца, перед самой войной.
Уж не знаю, по каким причинам меня, восьмилетнего, было решено отправить к бабке в деревню, — то ли родители собирались куда-то уезжать, то ли намеревались разводиться… Я даже не очень хорошо запомнил обстановку бабкиного дома и только в последующие наезды, будучи уже взрослым, сомкнул свои поздние впечатления с детской памятью, хотя нынешняя Щербаковка так же не похожа на довоенную, как сорокалетняя акула «железки» — на восьмилетнего мальца, впервые захваченного смутным ощущением счастья и ласковости весеннего мира, который через миг будет ввергнут в адские ужасы.
Я понимаю, человеку не дано чистой объективности: всякое «было» изменяется под воздействием нашего «есть», хотим мы того или нет. И значительность тех детских довоенных впечатлений невольно преувеличилась во времени по контрасту с другими, более горькими, угрожавшими даже самому моему существованию переживаниями. Но в последние тридцать с лишним лет во мне с неугасимой энергией живет заблуждение, что, будь в моей памяти еще два-три таких же светлых уголка, как воспоминание о предвоенной Щербаковке, они могли бы защитить, дать душевную прочность, с которой, пройдя любые испытания, становишься только чище и добрее. Но, возможно, это — иллюзия, выдуманная к самооправданию. И все равно майские дни сорок первого года я считаю лучшим временем своей жизни.
Читать дальше