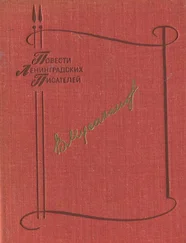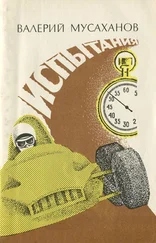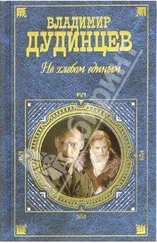На дощатом верстаке у меня стоял старый приемник, я перенес его сюда, когда для дома купил японский транзистор. Здесь я слушал последние известия, пока возился с машиной. Привычно нажав клавишу приемника, я отодвинул от стены тяжелый ящик с запчастями и принялся вынимать их, надеясь обнаружить нужное реле. Приемник, простуженно просипев, негромко выдал бодрую утреннюю музыку. Я вытаскивал из ящика старые подшипники, карданные шарниры, рессорные пальцы, рулевые тяги, — почти все здесь надо было давно выбросить, но мешала жадность и лень. Я стоял, низко склонившись над ящиком, и досадовал, что не удосужился избавиться от этого хлама, и вдруг почувствовал чей-то упорный взгляд в спину, мгновенно обдавший ощущением опасности. Резко выпрямившись, обернулся.
У приоткрытой створки ворот стоял Бурков. Я одним взглядом охватил всю его полноватую фигуру в расстегнутом коричневом пальто с выбившимися концами мохнатого шарфа и почувствовал всегдашнее неприятное ощущение от несоответствия этой полноватой фигуры и заостренного маленького лица. Он был угнетающе некрасив, какая-то крысиная улыбка, вызывающая брезгливость, и неспокойные круглые глаза, которые суетливо бегали по сторонам. Бурков работал в домохозяйстве еще вместе со мной электриком, выслужился и стал мелкой сошкой в жилконторе.
— Вот, с утра музыку гоняешь, людей будишь, понимаешь ли, — начал он шутливо и, еще больше обнажив в улыбке свои резцы, вошел в каретник. — Здорово.
Я никак не принял эти слова о музыке; я знал эту неосознанную потребность убогой натуры, тщащейся самоутвердиться, убедить самое себя хотя бы в Fie полном, не окончательном ничтожестве и обладании пусть даже призрачной, воображаемой властью, о которой можно говорить лишь шутливым тоном, суетливо шныряя глазами по сторонам.
— Здорово, здорово, — ответил я и почувствовал какое-то вязкое томление, будто все это уже было — и слова, и крысиная улыбка, и бегающие глаза — и мне нужно, необходимо вспомнить, восстановить в памяти что то важное, связанное с Бурковым. На миг память застыла в тягучей бесформенной истоме и потом пугающей вспышкой высветила лицо Натальи с заплаканными мокрыми глазами.
Бешеная, удушающая ярость ударила в грудь, так что я качнулся и зашелся лающим сухим кашлем. Дрожащей рукой вытащил сигареты и, вздохнув, вдруг почувствовал спокойствие. Скривив губы в подобие улыбки, я протянул Буркову сигареты, и он пошел ко мне, загребая плоскостопыми ногами, приблизился на вытянутую руку, и тогда я ударил тычком под дых.
Мучительное недоумение исказило крысиное его лицо, голубенькие глаза остановились, страдальчески намокли, исчезло выражение наглости и неуверенности, — боль сделала лицо человеческим. Ведь боль и недоумение часто служат началом мысли.
Внимательно наблюдал я, пока он хрипел, согнувшись и прижав руки к животу. Дыхание выравнивалось, и лицо его по мере этого снова становилось наглым и злобно-крысиным.
Нет, подумал я, этого мало для такого грызуна, чтобы в нем шевельнулось сознание. И только он отдышался и оскалил пасть, я снова ткнул его под ложечку. Кулак словно утонул в податливом теплом тесте.
Он сломался почти пополам и утробно замычал: ы-ы-ы, как глухонемой. Я смотрел в его глаза, налитые слезами, страхом, идиотским недоумением, болью, — только эти примитивные эмоции могли возникнуть в студенистом мозгу этого грызуна. Медленно вытянув из пачки сигарету, я ждал, пока он отдышится. Наконец он перестал мычать, выпрямился, и тогда я сунул в его обслюнявленные губы сигарету и шутовским угодливым жестом поднес спичку. От страха он машинально затянулся, скрипуче кашлянув.
— Товарищ начальник, — сказал я кротко и заискивающе, — как-то невеликодушно девушку обижать, — и наклоном головы указал на полуоткрытую створку ворот. — Я вас очень прошу, будьте с ней поласковее, ее, кроме вас, и защитить некому.
Он вынул сигарету изо рта, с хрипом вздохнул:
— Сразу бы так и оказал, что твоя эта…
Я не дал ему договорить, указательным и большим пальцами ухватил за нижнюю губу (есть там маленький болевой центр), сжал и вывернул этот ошметок мокрой плоти, и меня едва не стошнило от мерзкого прикосновения. Бурков замахал руками, будто вообразил себя ветряной мельницей.
Я зарычал:
— Слушай, ты, вошь цыганская. Я вырву тебе кадык, а потом утоплю там, в люке, на заднем дворе! — Вздохнул и закончил уже вполголоса: — И никто тебя не найдет, потому что ты сразу соединишься с тем дерьмом.
Читать дальше