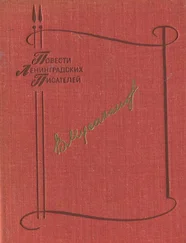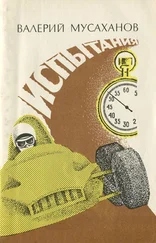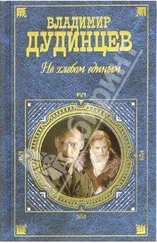— Понеси хоть портфель, а то я, как назло, взяла все учебники, — попросила она и, освободив руки, зябко скрестила их на груди. — Ну говори, не молчи, пожалуйста.
Я взмахнул ее увесистым портфелем, небрежно усмехнулся и буркнул:
— Выгнали наконец.
— Тебя?!
— Меня, меня, кого же еще.
— За что?
— Да ни за что… Курил в уборной, ну и завхоз поймал. Всем — ничего, а меня… Да и хрен с ними.
Мы, не сговариваясь, свернули направо и зашагали по узкой улице вдоль тех же красных кирпичных конюшен.
— Вот гады, год не могли дать закончить, — она зло усмехнулась. — А вообще плюнь. Можно в заочной школе, она где-то на Союза Печатников находится. А в десятый пойдешь в вечернюю, — ока вдруг взяла меня под руку, крепко прижалась плечом, — там еще лучше. А днем почтальоном можно устроиться. Не жалей, — сбоку она заглянула мне в лицо, улыбнулась с прищуром. — Пойдем в кино.
Я не ответил и отвей взгляд.
— Да брось переживать. Ты первый, что ли? — Она сильнее оперлась на мою руку.
— Посадят меня, наверное, — сказал я намеренно спокойно, испытывая смутную гордость и острую, почти болезненную потребность в жалости — нежной женской жалости. (Может быть, поэтому я пришел именно к ней, а не к Буське и Кирке, неосознанно ощутив, что случившееся вчера на какой-то момент вырывает меня из тусклого существования, делает более значительным, позволяет рассчитывать на ее внимание, на ее жалость и, быть может, на что-то большее, чему я не осмеливался дать имя).
— Почему?! — сразу спросила она удивленно и потом добавила насмешливо: — Кому ты нужен?
— Пойдем, — я прибавил шагу и, не поворачиваясь к ней, многозначительно усмехнулся.
Стук ее каблуков потерял четкий размеренный ритм, но ока, не отставая, шла рядом и молчала. Мы снова свернули направо, огибая квартал по Артиллерийской улице, пересекли пустырь, через пролом в кирпичном заборе пролезли в ее двор и вышли прямо к перемычке каретных сараев между желтыми флигелями. Молча вскарабкался я я по ржавой лесенке, кинул ее портфель в слуховое окно и пролез на чердак, ни разу не обернувшись. Достал последнюю полувысыпавшуюся папиросу, чиркнул спичкой и сел на скамью.
— Помоги, — тихо позвала она, просунув голову в слуховое окно, — на каблуках не спрыгнуть.
Я встал на ветхую скамейку, она положила руки мне на плечи, просунула в окно ногу, обнажив почти все бедро.
— Ну, держи, а то свалюсь, — тихо, но раздраженно приказала она.
Я бросил папиросу, подсунул ладонь под это оголившееся бедро, ощутив прохладную скользкость шелкового чулка и горячую живую гладкость кожи там, где кончался чулок, и то удержал шумного вздоха. Рывком она подалась вперед, сомкнула руки на моей шее, и я, еле сохранив равновесие, успел другой рукой обхватить ее за спину. Мгновение я стоял на потрескивающей скамье, прижимая Инку к себе и ощущая испуганное удивление, что ее тонкое стройное тело оказалось вдруг таким тяжелым и горячим. И, лишь поставив ее на засыпанный песком пол чердака, я почувствовал волнение.
Она взглянула на меня снизу вверх, и в сумраке лицо ее показалось неестественно белым, а большой рот и длинные глаза — угольно-черными. Я осторожно сошел со скамьи, словно боялся нарушить какую-то бездыханную, уже прогревшуюся под освещенной солнцем железной крышей тишину чердака. Я стоял перед нею, сдерживая рвавшийся вздох, и молчал, пока она, сделав шаг к скамье, не спросила шелестящим шепотом:
— Что? — И лицо сразу вернуло свои прежние краски.
Я пробрался в угол, достал из-под балки винтовку, принес к скамье.
— Вот, — глухо и коротко выдохнул я и подал ей малокалиберку на вытянутых руках.
— Что это? — Она сделала шаг назад, растерянно оглянулась и села на скамью.
И только тут я ощутил нелепость, идиотизм и бессмысленность того, что сделал вчера. И, глупо, беспомощно улыбнувшись, приставил винтовку прикладом к ноге.
— Зачем тебе? Где ты взял? — брезгливо скривив губы, спросила она.
— Взял, — как скудоумный, откликнулся я и почувствовал мучительный стыд.
— Сядь, — она хлопнула ладонью по скамье слева от себя.
Как загипнотизированный, я сделал два расслабленных шага и сел, поставив винтовку между колея.
— Положи ты ее, брось! — Она ткнула меня локтем в бок, и я послушно разжал пальцы, винтовка с таким стуком упала на песок.
Молча смотрел я в глубь чердака, где смутно белели перекрестья деревянных балок, и ничего не хотел говорить. Я чувствовал такую растерянность, что даже не испытывал стыда.
Читать дальше