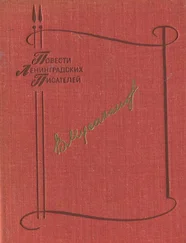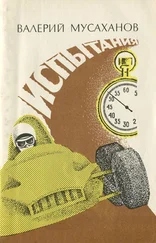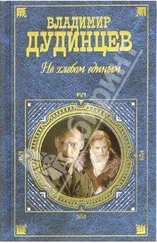Я запрятал винтовку в дальнем углу, слез с чердака, обошел флигель и, дрожа от холода, спрятался на темной черной лестнице, в приоткрытую дверь наблюдая за Инкиной парадной. Я не знал, который час, — время перестало существовать, — но чувствовал, что Инка еще не ушла в школу.
Зачем ждал я ее в то жуткое утро? Почему не пошел за сочувствием к старым испытанным друзьям Буське и Кирке?
Почти ничего не соединяло меня с хорошо одетой дочкой лысоватого полковника, за которым приезжала по утрам зеленая «Победа». Послевоенная жизнь из года в год отдаляла нас друг от друга, и я уже почти не связывал в памяти ту тощую, тревожно-некрасивую девчонку с безумными неподвижными глазами, блокадным летом давшую мне хлеб, с теперешней Инкой — первой красавицей параллельной женской школы, носившей туфли на высоких каблуках и крепдешиновые платья, окруженной на школьных вечерах непробиваемой толпой разодетых, благополучных десятиклассников. Мы здоровались при встречах, перекидывались ни к чему не обязывающими словами и расходились. Она казалась такой далекой, что ее лицо, в тот год по-настоящему засверкавшее острой, утренней и немного надменной красотой, даже не вызывало во мне восхищения. Я только умом и глазами понимал, что Инка редкостно красива, но сердце, уже ожесточившееся и загрубевшее в обидах, не откликалось волнением. Может быть, это была инстинктивная защита невежественной и уже ущербной души, неспособной к бескорыстному наслаждению прекрасным, неспособной понять красоту без притязаний на обладание? Не знаю. Я сторонился Инки в последний год. Но вот ощущение гибельной непоправимости, вторгшейся в судьбу, побудило меня прийти не к друзьям, а к ней. И, спрятавшись на черной лестнице, я следил за ее парадной.
Солнце уже заглянуло во явор» окрасив желтизной сероватый утренний воздух, стали слышнее; машины, проезжавшие по улице; из парадных выходили люди, их торопливые утренние шаги будили звонкую пустоту двора. Приехала зеленая «Победа» и увезла высокого лысоватого полковника, Инкиного отца, а я все стоял на темной черной лестнице и смотрел в приоткрытую дверь с тупым терпением животного.
Тяжелая скованность держала душу в глухоте — как при серьезном ранении машинально напрягаются мышцы, чтобы удержать в неподвижности поврежденную руку, так чувства мои застыли, стараясь защитить сердце от разрушительной боли и ужаса, я не ощущал ни жалости к себе, ни раскаянья — только отупение и пустоту.
Она вышла из парадной неожиданно, остановилась на нижней ступеньке, запрокинула голову и посмотрела в небо. Из темноты черной лестницы мне было видно, как в легкой улыбке шевельнулись губы, как слабое солнце осветило высокую чистую шею и под голубой вязаной кофточкой мягко округлилась грудь от безотчетно счастливого вздоха И острое чувство неповторимости этого мига вдруг пронзило меня — я ощутил всю окончательность, непоправимость того, что сделал вчера, и почувствовал спокойную, почти радостную удовлетворенность, потому что понял, что без вчерашнего не смог бы так увидеть эту девушку, стоящую на нижней ступеньке парадной с запрокинутой головой, вообще не пришел бы в этот двор, быть может, никогда и не узнал бы, что значит она для меня. Вчерашнее как бы возвысило меня до нее — мы сравнялись, и ее красота, мгновенно доставшая до души в это утро, стала моей уверенностью, а Инка стала моей девушкой. И я смело вышел к ней из двери черной лестницы и, не здороваясь, сказал:
— Пошли.
— Пошли, — откликнулась она, сошла со ступеньки, но тут же приостановившись, пристально посмотрела на меня: — Ты чего такой… лохматый?
— A-а, потом расскажу. Пошли быстрей отсюда, — небрежно, будто ничего не случилось, ответил я.
Мы вышли на улицу и повернули к перекрестку поэтов, молча прошагали квартал под четкий стук ее каблуков. На углу переулка я сказал:
— Пойдем здесь, мне лучше не появляться у школы.
— Что-нибудь случилось? Где твой портфель?
Она повернула ко мне лицо и остановилась, остановился и я.
Тревожные искры мерцали в синеве ее длинных неподвижных глаз, ресницы отбрасывали легкие тени на голубоватые высокие скулы, и тревожно напрягся большой, прекрасный, совсем не детский рот, — было радостно и мучительно смотреть на нее, я потупился и ответил:
— Мне нельзя в школу. Если можешь, не ходи сегодня тоже.
— Хорошо, только скажи, что ты натворил? — Она быстро пошла по переулку.
Красные кирпичные конюшни старой кладки тянулись справа от нас, а на другой стороне переулка бельма сто таращился закрашенными стеклами облупившийся задний фасад бани. Переулок был пуст до самого конца, только косой клин солнечного света лежал на той стороне возле стены серого дома, и спереди вдруг порывом дохнул ветер, взметнул ее пушистую, почти до бровей, светлую челку. Она вздрогнула от холода, свободней рукой стянула ворот кофты.
Читать дальше