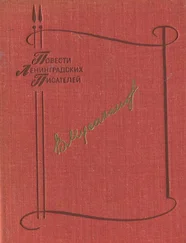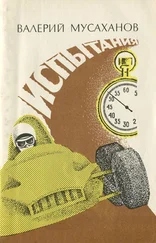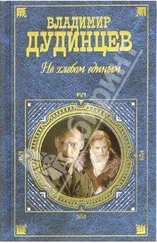Где-то над торосами Гренландского моря апрельский арктический воздух сгущался в антициклоны и плыл через Норвегию на Ленинград, наполняя город знобкой сизоватой серостью; декретное время уже отметило конец рабочего дня и с несуетной озабоченностью подсчитывало тонны, кубометры и мегаватты. А я будто попал в будущее — не осталось никаких уз, люди и город не были связаны со мной общностью опыта, непрерывностью времени, — точно во сне, когда кричишь, машешь руками и зовешь на помощь, но никто не слышит твоих слов и не замечает жестов. Я был одиноким невидимкой, время которого текло вспять — к тому апрелю сорок второго года.
Я умирал в куче тряпья на уродливой кленовой кровати, и два голоса, голос проповедника и голос нищенки, торговались за тот остаток жизни, который еще курился легким прозрачным парком над моими губами. Я хотел шевельнуться, подать голос за свою жизнь, но, как во сне, никто не мог услышать меня, хотя разговаривали они обо мне — еще обо мне. Но я уже был невидимкой — одиночество смерти делало меня таким, и оно давало спокойствие, вернее, безразличие, хотя я отчетливо понимал смысл слов отца. И первоначальное несогласие, возникшее во мне, сразу угасло, истощив последние силы. Мне было безразлично, будто не обо мне речь и не я умираю. Я уже был далеко, где то в другом измерении, где хрустально сверкали под апрельским солнцем и рассыпали лиловые искры мохнатые хвощи и папоротники на оконном стекле; световые годы уже отделяли меня от голоса усталой нищенки и голоса проповедника, — одиночество, окончательное отрешение, предел существования…
Но я существовал, вне всякого сомнения, когда лежал в куче тряпья и слышал разговор о своей смерти. А смерть — это отнюдь не иллюзия, и тот сахар, кусочек рафинада, реальнее целых сахарных складов и кондитерских магазинов, и сладость его острее и больше райских блаженств, потому что она — сладость возвращенной жизни…
Я ничего не выдумал, это не рефлексия, обращенная назад, — слишком жесткой силой реальности обладает смерть. Я ничего не выдумал. Отец был реальностью, а не голодным бредом (хотя лучше бы он был бредом), когда в тот апрельский день тридцать один год назад сидел за слоноподобным столом в этой комнате, где ничего не изменилось, и распоряжался моей смертью — только смертью, потому что моя жизнь казалась в тот день лишь неприличной иллюзией…
Сизо-серая апрельская улица в четыре часа пополудни декретного времени молчаливо уводила скромных прохожих, отработавших свой день; хмурились прошлым столетьем дома, деликатно шуршали легковые машины.
Я шел к отцу, и меня подмывало завернуть в соседнюю бакалею, купить целую пачку рафинада и поднести с трогательной благодарственной надписью.
Я шел по направлению к Салтыкова-Шедрина (бывшей Кирочной). Был апрель семьдесят третьего года, и весенние арктические антициклоны медленно влекли по небу полупрозрачные тени облаков, но мне слепило глаза блокадное солнце сорок второго. Так где же я был: здесь — теперь или там — тогда?
Не думайте, что тогда, в том апреле (а может, это теперь и здесь?), мне было всего девять лет от роду и я ничего не понимал и сейчас уже не помню, должен забыть. Я был тогда мудр предсмертной мудростью и понимал, что осужден умереть. Кого хоть раз настигало то спокойствие и безразличие — должен умереть. Нельзя заглянуть туда и вернуться. Но я выжил, и выжили другие. Такова судьба части моего поколения, и в этом наше счастье и наше несчастье.
Наше несчастное счастье…
И снова голодная одурь блокадной зимы затуманила глаза и вызвала головокружение, и давешнее предчувствие припадка сдавило грудь и виски, навалилось безотчетным парализующим страхом.
Я тащился по бывшей Надеждинской, и улица вливала в меня чуть обидчивое приятие данности…
Меня всегда занимал вопрос о зависимости между отношением человека к жизни и его личной судьбой. В юности, в звонкой, натянутой, как струна, ночной тишине, я почти постоянно думал об этом. Мне казалось, разрешив этот вопросик, я разгадаю тайну бытия. По-дикарски наивно и яростно верил я, что все связи жизни и судьбы можно выразить формулой, столь же изящной и строгой, как E = mc 2… [4]
В зарешеченное окошко камеры доносился глуховатый отдаленный шум грузовиков, проходящих по набережной; одинокая, неоново светящаяся звезда мерцала в сизых лохмотьях неба, четко обрезанного квадратом амбразуры; астматически хрипел во сне мой сокамерник — кроткий, застенчивый убийца, порешивший двух человек за шесть рублей и чекушку водки и теперь с тупым бездумным смирением ожидающий своей участи.
Читать дальше