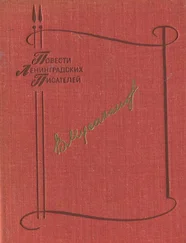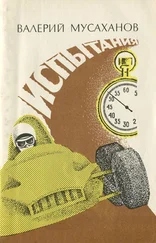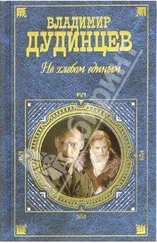Проснулся я еще до подъема. Слюдяной короткий сумрак, который разделяет белую ночь с утренней зарей, плавал в проходе между нарами, пахло испариной натруженных тел, несвежими портянками; из угла барака доносился неспокойный прерывистый храп.
Внутри была такая пустота, что я с особой осторожностью слез с верхних нар, — казалось, при первом же резком движении меня подбросит к потолку, как невесомый пузырь. Эта болезненная невесомость расходилась по рукам и ногам, делала их слабыми и беспомощными. Я вышел из барака и умылся пронзительно холодной водой под умывальником, глухо стукающим соском в мертвой предутренней тишине. Высокое, прозрачное небо стояло над зоной; на колючей проволоке запретки висели голубоватые капли росы, а за широкой песчаной пустошью, от самой изгороди наморщенной свеем, синела темная стена тайги, и над ней, подкрашенный еще невидимым солнцем, медленными кругами ходил большой золотистый ястреб.
Я достал спичечный коробок с заветной щепотью махорки, всю до крошки ссыпал ее в клочок газеты — получилась толстая цигарка. Спичка тоже была последней, но это не беспокоило. Я сел на завалину барака и, делая размеренные затяжки, стал смотреть в синюю, постепенно светлеющую с вершины стену тайги. Я ни о чем не думал, лишь медленно наполнялся угрюмой тяжелой решимостью.
Цигарка курилась ровно, махорочный дым казался особенно душистым и вкусным, и в мире для меня отныне не существовало больше ничего.
Цигарка догорела наполовину, когда из барака, шаркая растоптанными чунями, вышел старый татарин-дневальный; ежась от утренней знобкости и аккуратно, бережно переставляя слабые ноги, с фанерным ящиком он направился к хлеборезке за пайками. И тут возле надзирательской пробили подъем, резкие металлические звоны дробили утреннюю тишину. Цигарка догорела до конца, я последний раз взглянул на уже светлую стену тайги и ушел в барак. Вскоре вернулся дневальный. Я взял свою пайку и сунул под подушку. Утренняя возня меня не касалась, я даже не разбирал слов и ругани, которыми обменивались бригадники, по-утреннему возбужденные, с измятыми лицами, злые.
Баланду и кашу я съел без хлеба, потом выскользнул из столовой и спрятался на задах кухни за кучей наколотых дров, чтобы переждать развод на работу. Когда зона опустела, я вернулся в барак, достал хлеб и сахар и стал есть. Я не чувствовал вкуса, просто упорно и размеренно уничтожал еду.
— Заболел, что ли? — спросил дневальный.
Я только кивнул в ответ, продолжая неторопливо жевать. Торопиться было некуда, — забрать меня в карцер могли не раньше утренней поверки. Я доел весь хлеб и сахар, выпил две больших кружки кипятка, залез на нары и заснул, беззаботный и почти счастливый от сытости.
Потом был штрафной изолятор за невыход, кипяток, триста граммов пайки и миска баланды через день. Спасло меня тяжелое воспаление легких, я очнулся в лазарете и провалялся там больше месяца. Потом меня перевели в барак доходяг и три месяца не гоняли на работу.
Только позже я обнаружил в одной из тетрадок листок материнского письма.
«…Дорогой сынок, надеюсь, витамины помогут тебе, посылаю фуражку отца, в ней тебе будет удобно ходить. Носи, чтобы не напекло голову…» Письмо это даже не рассмешило меня.
С тех пор минуло почти двадцать лет. И вот я стоял, ладонью опираясь на столешницу, и смотрел, как по заставленной хламом комнате легко движется усохшая женщина с обильной сединой в волосах.
Я достал из кармана пятидесятирублевку, положил ее на стол и сказал:
— Поздравляю тебя, мать. Вот, купишь себе что-нибудь, а то я ничего не придумал.
— Спасибо, сынок, но зачем мне. Оставь лучше себе, — глаза ее молодо стрельнули в сторону стола, и она остановилась, взялась руками за спинку стула. — Я не приготовила тебе ничего. Все думала купить мохеровый шарф, но не попадался…
Она отодвинула стул и села к столу.
— Может быть, все-таки съешь что-нибудь. Я могу чайку заварить. У меня есть пирожное «трубочка».
— Нет, спасибо, мать, не хочу, — мне опять пришлось сдерживать голос.
— Как-то не получается наш день рождения, — она смутно улыбнулась, сделала слабый жест рукой. — Я как уехала из дому, с тех пор и не праздновала. А дома отец — твой дедушка — так умел устраивать праздники. Свечи зажигали… — она уже произносила слова нараспев, и лицо снова обмякло мечтательно и безвольно.
Я поспешно прервал ее:
— Дай, пожалуйста, пепельницу, — и достал сигарету.
Читать дальше