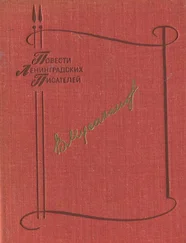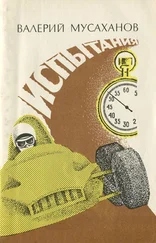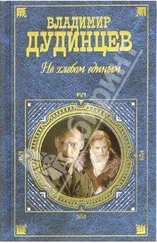Я лежал на нарах и думал о связях жизни и судьбы. И с болезненной страстью верилось, что можно постичь секрет счастья одним лишь усилием короткого и не отягощенного знанием ума… И до сих пор во мне — усталом, изломанном, сорокалетием — порой вспыхивает идиотская надежда, что задачка имеет решение, что формула счастья существует. Но это вызывает теперь лишь расслабленную тихую грусть, как воспоминание о наивности детства. Хотя, возможно, те давние беспомощные мысли, та дикарская, наивная и яростная вера в гармонию и закономерность судеб помогли выжить, не сломаться, не заразиться безумием бесчувствия, с каким кроткий убийца ожидал своей участи.
Нет зданий более нефункциональных, чем тюрьмы и церкви. В церквах зародилось сомнение, в тюрьмах — жажда свободы. Энергия непокорства и свободомыслия движет человеческий дух во времени, как гравитация в притяжениях и обращении небесных тел поддерживает гармонию вселенной. Единство и борьба противоположностей, изменяя, сохраняют сущее — да простят мне философы наглость и невежественность мысли. Но я не философ и не тщусь познать устройство мира, где все мгновенно и вечно, как человеческая боль. Я вспоминаю свою жизнь, чтобы понять, могла ли она сложиться иначе, и на этом единичном примере пытаюсь понять, есть ли для жизни и судьбы формула, подобная Е — mс 2.
…Я шел вниз по улице своей судьбы — одинокий странник из прошлого, лишенный будущего. Я шел к отцу и не хотел его видеть. Я был по горло сыт прошлым, я боялся будущего, а в настоящем чувствовал лишь тоскливое, слабое опьянение от выпитого натощак коньяка и голод. Впрочем, голод был моим спутником почти всю сознательную жизнь. Голод шел со мной с самого рождения — торгсины [5]тридцатых годов, блокада и карточная скудость сороковых, безумный, мучительный голод исправительных колоний в пятидесятых, когда организм растет и требует пищи, а сознание не в силах уловить смысл в этом испытании. Двадцать лет из сорока прожитых горбушка черного черствого была для меня вожделенной целью — такой, какой для честолюбца становится слава. Мое поколение мечтало «о подвигах, о доблести, о славе» — кто не мыслит об этом от пятнадцати до тридцати пяти, — но рядом с этой высокой жаждой всегда грезился хлеб, тот, который нынче неопрятными кусками плесневеет в лестничных бачках для пищевых отходов и мокнет на задворках столовых в кучах картофельной шелухи.
Память сытых людей по-рабски коротка и беспечна. Но мне приходилось замечать, как многие виновато отводят взгляд от брошенного, пропадающего хлеба.
Если вы долго и трудно голодали в юности, то, как бы сыто ни жилось вам теперь, как бы равнодушно ни относились вы к еде, в вас все равно остается, даже скрытое от вас самих, молитвенное отношение к пище. Оно неизбывно и цепко, как неосознанное суеверие, сидит где-то в сознании или подсознании, а может быть, глубже — в соках желез и крови, в клетках, навек хранящих память о годах невзгод. И эта клеточная память, это суеверие проявляется в ваших привычках — хотите вы этого или нет.
Я был довольно безразличен к еде, ел мало и нерегулярно, но что-то осталось во мне от тех изнурительных голодных лет. Какой-то атавистический животный инстинкт вдруг просыпался во время еды, и я испытывал мучительное неудобство, если ел не один. Я мог обедать в шумных столовых и унылых забегаловках, одинаково равнодушно принимал моченую сардельку со стаканом кефира и нежнейшую, обжаренную на вертеле вырезку с марочным вином, — посторонние люди не мешали мне… Но как только рядом со мной во время еды оказывался знакомый человек — сразу начинались мучения. Кусок застревал в горле, и появлялось смешанное ощущение яростной злобы хищного пса, в окружении себе подобных грызущего кость, и позорной беспомощности, будто в два часа пополудни посреди наполненного людьми зала итальянской живописи Эрмитажа я вдруг наделал в штаны. Я понимал, что все эти ощущения чистый идиотизм, но ничего не мог поделать с собой, — ярость и стыд всегда настигали меня за едой под взглядом знакомых людей. И это началось не вчера…
Чахоточным маем сорок второго года, когда смертные испытания замы были уже позади, но ужас смерти еще сидел в памяти, как дистрофия в истощенном организме, я слонялся по улице босой, в потертых до прозрачности вельветовых штанах, купленных еще до войны и теперь доходивших только до колен. Видимо, даже в голод я рос, хотя и противоестественно ощущал свой организм как что-то постороннее, доставляющее неудобство почти постоянным поносом, зудом неисчислимых прыщей, струпьями, покрывавшими грудь и лицо. Наверное, я был омерзителен и страшен на взгляд современного человека. Скелет, покрытый синюшной прыщавой кожей, в коротких белесых штанах и застиранной исподней рубашке из желтой фланели, с неровно выстриженной тупыми домашними ножницами головой, тоже покрытой струпьями. Но все равно май сорок второго запомнился мне как самое счастливое время детства. Я возвращался к жизни, и даже телесная слабость, которую я постоянно ощущал, доставляла болезненное удовольствие, потому что с каждым днем преодолевалась все легче. С каждым днем я все дальше отходил от парадной своего дома, и у меня хватало сил возвратиться. Из подъездов окрестных домов вылезали другие мальчишки, замотанные в лохмотья, и, прислонившись к степам домов, щурились на солнце мутными подслеповатыми, как у недельных щенков, глазами, Мы обменивались недоверчивыми взглядами, потому что за темную страшную зиму перезабыли друг друга, будто протекла тысяча лет, — голод отшибает память.
Читать дальше