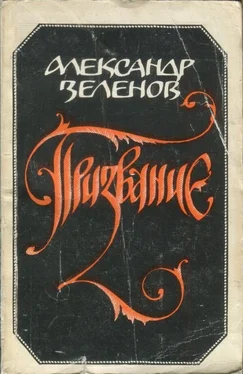Увидев глаза студента, оскал его рта, двинувшийся было навстречу директор остановился, словно наткнувшись на стенку, и плотно прижался спиной к изразцам выступавшей печки, вздрагивая подбородком, стараясь вобрать в себя свой обширный живот.
Окинув его ненавидящим взглядом, Средзинский протопал мимо и так хлобыстнул на прощание дверью, что с потолка еще долго летела побелка, легкими мотыльками порхая в грозовом, сгустившемся воздухе аудитории.
Стояла оцепенелая тишина. Лишь с улицы доносились крики дерущихся воробьев да веселые плачи гнездившихся на колокольне галок.
Какое-то время директор стоял, приклеившись спиной к печным изразцам. Потом подошел к столу, глянул поверх голов и разлепил плотно сжатые тонкие губы, не без труда обретая привычную самоуверенность.
— Староста!
— Здесь! — готовно вскочил Слипчук.
— Пойдемте со мной. Остальным — продолжать занятия.
Едва они скрылись за дверью, курс загудел. Каждому было известно, что таланты манкировализанятиями, как выражался Гапоненко, завуч, но не несли никаких наказаний. Стась же всего пропустил три урока — и вот тебе на…
Кроме того, откуда директор мог знать, что Средзинский лазал в Мишкину тумбочку, съел у Валеги кисель, залез в огород к Норину осенью? Кто мог донести, что он поругался с уборщицей в общежитии и обозвал Людмилу Гришук, флегматичную толстую однокурсницу, холмогорской коровой?
— Валега, твоя работа?
Мишка обиженно вытянул пухлые губы:
— Ну что вы, ребя!..
— А кто еще мог нафискалить?
— Ребя, да вы что… — Мишка трусливо засуетился. Затем, решительно цапнув отросшим ногтем передние зубы, заверил: — Во! Гад буду, не я…
— А кто же тогда?
— Пускай Людка скажет.
— Гришук, говори!
Гришук, рыхловатая, вялая, словно бы выпеченная из невсхожего теста, смотрела на всех из-под толстых очков потерянным близоруким взглядом, губы ее шевелились, произнося путаные слова: нет, она никому, ничего… Правда, она рассердилась тогда на Стася, но никому не нажаловалась.
Неужели Слипчук?
После того как Гошку назначили старостой курса и старостой комнаты в общежитии, он поселился в особом своем закутке, отделенном от общей тесовой перегородкой, не доходившей до потолка. Как только его однокашники заводили громкие споры и начинали шуметь, тотчас поверх переборки появлялись Гошкины пристальные глаза. Помаячив над переборкой, они, словно стеклышки перископа, вновь исчезали. Но этому как-то не придавали значения, хотя кое-кто из ребят и запускал в обладателя их башмаком или валенком.
Вскоре Гошка вернулся. Сел с таинственным видом, выпятив лиловатые крупные губы, и отрешенно уставился перед собой.
На него навалились всем курсом:
— Что там было?
— Выгонят Стася?
— О чем у вас был разговор?!
Гошка молчал.
— Да он сам нафискалил на Стася!
Гошка вскочил, будто шилом его укололи:
— Кто нафискалил… Я нафискалил?! Пошел-ка ты знаешь куда!..
— Говори: исключат или нет?
— Ве’оятно.
— Чего «ве’оятно»?
— Ско’ее всего, что да.
Все пораженно замолкли. Потом чей-то голос:
— Исключат — Стасик тут же тебя и подколет. Самого первого!..
— А что он, чикаться будет? — еще один голос. — У них, у блатных, знаешь как…
Гошка снова вскочил.
— Г’ебята! — он клятвенно приложил к груди, к гимнастерке руки. — Вот честное б’аго’одное с’ово… Если хотите — я чем угодно к’янусь!
Все повскакали из-за мольбертов, сгрудились возле Гошки, остались на месте лишь Долотов, Суржиков и Азарин.
Мольберт Средзинского с большущей дырой посередине так и валялся, никто не спешил его поднимать. Спор, разгораясь, грозил перейти в серьезный. Было жаль Средзинского, такого горячего, необузданного. У человека ни дома ни лома, куда он теперь… По старой дорожке покатится? «Завязал», а теперь «развязать» снова может, и сделает это запросто.
На большой перемене все бросились к канцелярии, где на двери уже красовался написанный рукой секретарши приказ.
Средзинского вновь все увидели на большой перемене. Стоял он внизу, у раздевалки, у выхода, в потертом своем, но все еще элегантном и отдающем былым шиком клифте, распахнутом ухарски. Шея замотана шелковым старым кашне, на голове, зацепившись за темную прядь, чудом держалась кепочка-шестиклинка. По-волчьи прижавшись к барьеру, Стась затравленно озирался на пробегавших мимо студентов, спешивших в столовку (на большой перемене многие забегали туда купить пайку белого хлеба с порцией сахарного песку). От него непривычно и остро разило сивухой. Средзинский был пьян.
Читать дальше