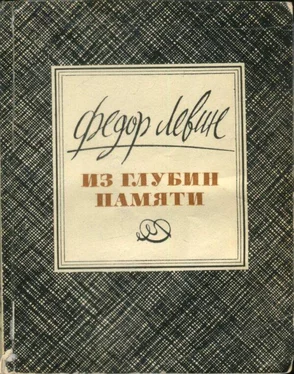Завод рос, и постепенно все меньше становилось на нем землекопов-сезонников — грабарей со своими грабарками, все больше постоянных рабочих. У директора завода уже появилась легковая машина — «Штейер» из Чехословакии, мы с ним ездили как-то в Симферополь на совещание. Ехали через Феодосию, по степной дороге, пыль, подымаемая встречными машинами, превратила нас в мукомолов. Вдоль дороги бежали наши телеграфные столбы и металлические столбы индо-европейского телеграфа, на них иногда мы видели степных орлов. Возле Феодосии мы выкупались в море, дальше, к Симферополю, через Старый Крым вело уже шоссе, хотя и сильно разбитое.
Интересным человеком был Ваня Баранов, председатель завкома. Бывая в завкоме на заседаниях или просто в то время, когда к нему приходили рабочие и сезонники, я порою любовался им. Умница, он превосходно разбирался во всех тонкостях «урочного положения», в нормах и тарификации, умел и объяснить людям, как оплачивается их работа, и распутать любой конфликт с администрацией. Тогда эти нормы и расценки были до крайности сложны, многие из них устарели и еще не были пересмотрены, возникала такая путаница, о которой говорят: «черт ногу сломит», — и я, например, чувствовал себя при этих беседах как в дремучем лесу. Через несколько лет я как-то встретил Баранова в Москве на улице. Оказалось, что он уже окончил институт, стал инженером на крупном заводе на Украине.
У нас наладились добрые отношения с Керченским райкомом партии. Секретарем его был тогда Ктиторов, спокойный, выдержанный, деловитый. Он терпеливо переносил горячность Журавлева. Агитпропом заведовал Мартемьянов, человек сердечный и добрый, мне с ним было легко. Однако горячность Журавлева иногда порождала и осложнения. Как-то он задумал провести на заводе тревогу, проверить бдительность коммунистов. Ночью заревел гудок. Конечно, сам Журавлев и я, предупрежденный им, были одеты, спать не ложились. Директора Журавлев тоже предупредил. По тревоге стали сбегаться не только коммунисты, но, конечно, и все, кто жил в районе завода. Беспартийных Журавлев отпустил, а коммунистов повел в клуб, распорядился, чтоб все зарегистрировались, и тут же открыл собрание. Начальник отдела технического контроля Подгорный во время тревоги принимал дома ванну. Услышав гудок, он, не успев толком вытереться, напялил на себя халат и прибежал к проходной. Видя, что тревога учебная, он отправился домой и вновь полез в ванну. Никакого разрешения он не спросил. Возмущенный Журавлев предложил собранию исключить Подгорного из партии. Я вынужден был возразить. Я постарался поправить его в тактичной форме, сказал, что Подгорный совершил проступок, но нельзя же так исключать из партии, в его отсутствие, не выслушав, не разобрав, почему он так поступил. Да и не слишком ли сурова мера наказания за проступок. Я предложил передать все дело на рассмотрение парткома. Журавлев негодовал и уже бросил по моему адресу словечко «интеллигентщина». Но тут в дверях появился секретарь райкома Ктиторов и с ним секретарь обкома Живов. Вероятно, в городе тоже услышали гудок, а Живов приехал в Керчь как раз в этот вечер. Обоих тут же пригласили в президиум, они поинтересовались, что тут происходит. После кратких объяснений Журавлева и моих Живов предложил коммунистам высказаться по этому поводу. Слово взяла Яблонская, за ней начальник железнодорожного цеха Муха, старый коммунист, рабочий с малых лет, и они возразили Журавлеву. После короткой речи Живова, который мягко, но настойчиво отверг предложение исключить Подгорного, собрание было закрыто. Несколько дней Журавлев сердился на меня и Яблонскую, но потом, очевидно, понял, что был не прав, и весь вопрос был без шума сдан в архив.
Я рассказываю об этом, потому что вся история очень характерна и для Журавлева с его горячностью, и для того весьма острого времени, когда к малейшим ошибкам было суровое и почти нетерпимое отношение.
Однажды в парткоме появился молодой коренастый парень, одетый по-московски. Принял его я, Журавлева в ту минуту не было. Новоприбывший действительно оказался москвичом. Он предъявил мне рекомендательное письмо от секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева, назвал свое имя: Яков Иеремиевич Эстеркин. Приехал, чтобы работать на заводе. Разумеется, мы его приняли и устроили. Яша стал для нас поистине кладом. Он организовал комсомольские бригады, комсомольские общежития. Превосходный журналист, он написал потом целую книгу о заводе, которая была издана Крымиздатом, я, уже работая в Симферополе, написал к ней предисловие по просьбе Эстеркина.
Читать дальше