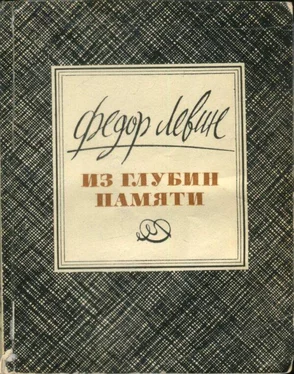Я представился.
— Все хорошо, только придется вам поскучать со мной, пока будет свет. Мы тут свою электростанцию наладили, да движок закапризничал. Такие уж у нас мастера. — Он помолчал и обратился к кому-то, кого мы только теперь кое-как разглядели. В глубине землянки сидел крупный человек, свет коптилки падал на его бритую голову, на выпуклый блестевший лоб, под которым кустились мохнатые брови и глубоко сидели глаза.
— Так расскажи, как дело-то было? — сказал Насонов. — Это наш новый начальник штаба, майор Лисицкий, — пояснил командир полка. — Третий день у нас.
— Что ж рассказывать, — вздохнул Лисицкий, вертя в руках фуражку. — Жена моя с дочкой осталась в Ленинграде, когда я с первых дней войны был направлен на фронт. Был я в Седьмой армии, воевали, отступали, это вам известно. И наконец оказался я в штабе фронта, в Беломорске. Писала мне жена письма, все, мол, хорошо, не беспокойся, себя береги. А какое хорошо, когда Ленинград в блокаде. И доходили до нас вести, что там тяжко, Ленинград обстреливают. Самое же страшное стало зимой сорок первого — сорок второго: голод, холод. Вы и представить себе не можете, да и я не представлял, пока сам не увидел. И вот в декабре получаю я письмо от жены. Пишет, что живут, как все, но собирается она уехать к моей матери и только не знает, возьмет ли с собой Лиду или оставит с кем-нибудь. А Лида наша дочь, ей четыре годика. И стукнуло это письмо меня обухом по башке, ведь моя мать умерла еще до войны, в тридцать восьмом. Вот, значит, куда моя жена собирается уехать.
— Почему ж она прямо не написала? — спросил Досин.
Лисицкий ответил не сразу, крепко провел рукою по лбу…
— Я думаю, — сказал он внезапно охрипшим голосом, — трудно человеку написать, что я-де умираю, скоро умру. Трудно и страшно…
Мы притихли. Лисицкий откашлялся.
— Что делать? Ведь война, — продолжал он, помолчав. — Я к командующему. Показал письмо, все объяснил. Встал он, к окну подошел, вернулся, пальцами по столу побарабанил, думает. Насчет блокады и как там в Ленинграде, он, должно быть, все знай лучше моего.
Вижу, берется за трубку. Поговорил с членом Военного совета — Куприянов, первый секретарь Карельского обкома, может, слыхали. И говорит мне: «Ну вот что, майор. Дадим мы тебе командировку. Срок две недели. А дальше действуй сам. Пробирайся в Ленинград. Сумеешь — вывезешь жену и дочь. Не сумеешь — вернешься. Понятно?» Я и сказать ничего не могу, только головой кивнул. Перехватило мне горло, чувствую, если слово скажу — разрыдаюсь. Встал, руки по швам, губы дрожат.
«Ну-ну, — говорит командующий. — Действуй!»
Заготовили мне бумаги, литер, дали сухим пайком, что положено. А я, как знал, берег консервы, которые нам выдавали, офицерский паек. Была там тресковая печенка, разная рыба в томате. Курить не курю, вместо табака шоколад давали. И все это я собрал, да еще товарищи подбросили. И отправился я до станции Сорока в дальнее путешествие.
Не стану говорить, как я в Ленинград пробирался. И поездом, и на попутных машинах, где пешком, где на санях. Не раз меня задерживали, документы проверяли. Наконец через Кобоны достигнул я города. Видел я в жизни всякое, но такого не видел и думаю — не увижу.
Иду по улице, — да что там по улице, — по тропке. Все завалено снегом, чистить, убирать некому. Вокруг замороженные дома, людей почти не видать, иногда на саночках везут покойника, да и сами-то как покойники. Закутанные, все, что только можно, на себя навертели, худые, лица бледные, кожа как восковая бумага. Мороз за двадцать градусов. А я иду, здоровый, краснощекий, за спиной огромный рюкзак тащу. И стыдно мне, и жутко. Обстрел начался, я пробираюсь то бегом, то по стенке. И дошел. Петроградская сторона, Полозова улица, дом семь. Подымаюсь на третий этаж в свою квартиру, сердце колотится. Что я там увижу? И бегом, бегом. Дверь не закрыта. Комнаты пустые, буфета нет, стульев нет, — потом уж я сообразил — топили ими. И во второй комнате, на кровати, под одеялами, под пальто, под занавесками, снятыми с окон, под всяким тряпьем, вижу, блестят глазки, худенькое личико — еле узнал — моя Лида.
«Лида, — говорю, — ты жива?»
Она слабо так улыбается, зубки показала.
«Папа! Это ты? Ты приехал?»
«Мама где? Где мама?»
«Она ушла».
«Как ушла?»
«Не знаю. Я спала, а она ушла. Муся сказала мне, что она скоро придет. А ее все нет».
«Кто это Муся? Какая Муся?»
«Муся из соседней квартиры».
Я уже не слушаю, сажусь, развязываю рюкзак.
«Ты есть хочешь?» — спрашиваю, как дурак.
Читать дальше