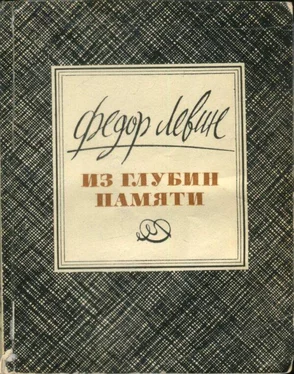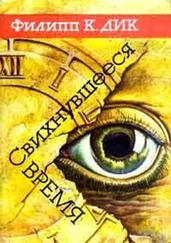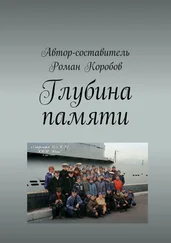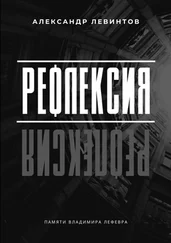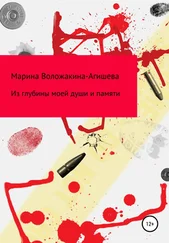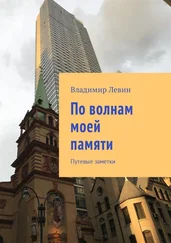В пятидесятые, в шестидесятые годы он неизбежно вышел бы в тираж. Но тогда… Рабочие были недовольны снабжением. Журавлев вытащил работников Церабкоопа во главе с их руководителем Саплиным в цехи, заставил их явиться в обеденный перерыв и отчитаться, ответить на вопросы рабочих. Он думал, как бы наладить политическую агитацию, беседы, искал время для этого. В обеденный перерыв времени не хватало, а после окончания смены рабочие быстро расходились. Он создал большую группу агитаторов и распределил их по вагонам рабочего поезда, отвозившего тех, кто жил в городе, с завода домой. Поезд шел минут сорок, за это время агитаторы вели беседы, читали вслух газеты. Сегодня такой способ работы покажется наивным, нынешние рабочие кончили не только восьмилетку, но и десятилетку, и техникум, и всевозможные курсы, выписывают газеты и журналы, слушают радио, смотрят телевизионные передачи. Тогда телевизоров не было, радиоприемников очень мало, «детекторные», газеты читали далеко не все, и потому беседы агитаторов были нужны как воздух. Мы много поработали, чтобы оживить наши клубы. Наконец, мы создали многотиражку «Домна». Сколько трудов стоило получить бумагу, обеспечить типографию. Я был редактором «Домны», единственный штатный работник Сережа Демидов собирал заметки, статьи, многое мы писали сами, я вел раешник-фельетон за подписью Евлампий Проныркин, в котором «протирал с песочком» разные неполадки. Сегодня наша газета вызовет разве только улыбку, но тогда!.. Рабочие брали ее нарасхват. У нас было несколько энтузиастов рабкоров: Сапельников — насколько помню, из механического цеха, Путилин — пожилой уже сторож на проходной, работница, фамилии которой я не помню, мы звали ее Ласточка, но, может быть, это и было ее настоящей фамилией.
Парторганизация наша выросла за год чуть не в три раза, перевалила за тысячу человек, а всего на заводе работало более десяти тысяч. При нас приезжал на завод В. В. Куйбышев, собрание устроили на широкой площадке перед заводом, поставили там трибуну, никаких усилителей тогда еще не существовало, и Куйбышев держал речь, напрягая голос до предела. Он рассказал о ходе выполнения первой пятилетки, о задачах инженерно-технических работников и всех рабочих. В то время, в 1929 году, была наконец задута наша первая домна. В местной газете появилась статья под заголовком «Домна загудела», это вызвало иронический смех доменщиков и всех прочих, так как действующая домна вовсе не гудит, она почти бесшумна, только дышит.
По тому времени домна наша была вполне современной. По эстакаде подходил поезд, подвозивший руду, кокс, флюсы (известняк). Этими материалами загружались нижерасположенные бункера. Под ними по рельсам бегал вагон-весы, он набирал из бункеров то одно, то другое. От самого верха домны к ее подножию вел наклонный подъемник, по нему вверх и вниз ходил скип. Машинист вагона-весов загружал скип материалом, скип лез вверх и там опрокидывал свой груз в печь. День и ночь непрерывно шла эта работа, каждые шесть часов пробивали шлаковую летку и выпускали шлак в вагон-ковш, который затем утаскивал паровозик, потом вручную (теперь это делается специальной «пушкой») пробивали летку чугуна и выпускали плавку. По песчаной канаве слепящий, как солнце, чугун, от которого исходил страшный жар, лениво тек на доменный «двор» по многим песчаным канавкам и постепенно застывал там. Летку снова забивали, и домна возобновляла свою работу, а через два-три часа остывший чугун огромными деревянными молотами разбивали на чушки и спешили убрать их, а на доменном дворе вновь образовать из песка хитрые канавки для следующей плавки. Завод работал день и ночь в три смены.
Коксовые печи были у нас старые, кокса давали маловато, а для второй, уже строящейся домны его совсем бы не хватило. Батареи этих печей загружали углем, закрывали, и он горел там с малым количеством кислорода, чтобы не сгорел, не становился золой, а превращался в кокс — в пористый уголь, подобно тому как веками готовили древесный уголь в Швеции, на Урале, да и сейчас еще готовят его для особых нужд. Через некоторое время заслонку открывали, и специальное устройство выталкивало пламенеющий коксовый пирог в открытый вагончик, который немедленно везли тушить. Подвозили под вышку, рабочий нажимал рычаг, и на горящий кокс обрушивался мощный душ. Через считанные минуты черная, дымящаяся масса кокса переправлялась дальше. Поблизости уже строилось огромное здание — печи Беккера — коксовые батареи несравненно большей мощности. Строила печь французская фирма, приславшая своих инженеров и рабочих. Мастера фирмы ходили в темно-синей спецовке со многими прорезными кармашками, в которых уютно располагались необходимые инструменты. Для этой печи привозили и складывали возле стройки огнеупорный шамотный фигурный кирпич, самый разнообразный: треугольный, круглый, звездчатый, многоугольный, прямоугольником, квадратом, плоский, мелкий и крупный — в общем, как мне сказали, до пятисот вариантов формы. Французские мастера священнодействовали, на каждого из них приходилось по три-четыре наших рабочих, а наши инженеры наблюдали, как идет кладка.
Читать дальше