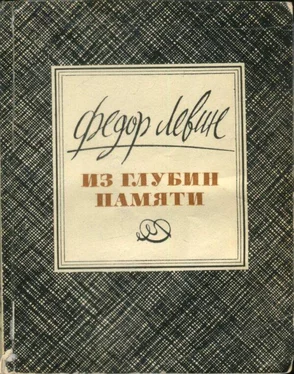В мешке у меня была буханка хлеба, кусочек сала, мой дневник, впоследствии пропавший, одеяло, две книги: Достоевский — «Преступление и наказание», Теккерей — «Ярмарка тщеславия». Были у меня при себе мои советские документы, справка о работе в уездном финансовом отделе в качестве конторщика первого разряда, две или три «керенки» двадцатирублевого достоинства каждая. Мать и младший брат Шура, которому не было еще пятнадцати лет, остались у нижнедевицкого парикмахера.
Уже в середине дня добрался я до Горшечного. Мне надо было ехать до Купянска, а там пересесть в поезд, идущий в Харьков. Я не знал, куда идти, в какой поезд садиться. Обратился к какому-то железнодорожнику, попросил устроить меня, пообещал двадцатку. Он повел меня к пассажирскому составу, вошел в вагон, видимо, поговорил с кем-то, вернулся, сказал: «Идите сюда!» Я отдал ему керенку и вошел.
Я очутился в компании нескольких казаков. Они закусывали, выпивали. Моя гимназическая серо-голубоватая шинель, по-видимому, внушала им какое-то уважение. Мне указали местечко. Я сел. Эта часть вагона отделялась дверью от другой. За дверью время от времени слышался голос какой-то солидной женщины, девичий смех, детская болтовня. В разговоре с казаками я узнал, что они составляют охрану, в вагоне же едет семья генерала Васильева. Поезд тронулся. Через несколько часов приехали мы в Валуйки. Было еще светло.
За Валуйками старший охраны начал меня понемногу расспрашивать. Он, вероятно, понял, что я еврей. Я же рассказывал о себе, ничего не скрывая. Он смотрел на меня все более подозрительно. Я показал ему мои документы.
Не знаю почему, но я стал догадываться, что дело неладно.
Уже в темноте приехали мы в Купянск. Казак вышел куда-то. Минут через пятнадцать он возвратился и сказал, чтоб я шел за ним. Он вел меня через пути. Мы подошли к составу, стоящему в тупике. Казак взял у меня мешок и подал в теплушку. Потом мы пошли вдоль состава. Через три-четыре вагона у теплушки стоял часовой. Он откатил дверь. Казак заставил меня снять шинель и приказал мне лезть в вагон. Он заорал на меня, назвал комиссаром и большевистской сволочью. Вдруг он стал бить меня нагайкой. Я помню жгучую боль этих ударов. Я влез в теплушку. Казак хотел влезть за мной и добавить еще, он кричал, что мало дал. Но часовой закрыл дверь, звякнул запор. И все стихло. Я был арестован.
В голове моей все смешалось. Я не был испуган, я был унижен, мне казалось, что сейчас я сойду с ума. Я ходил взад и вперед в пустой холодной теплушке. Чтобы прийти в себя, я ходил и вслух читал стихи Блока. Погодя я услышал чей-то храп. На полу лежал человек. Он проснулся. Пьяным голосом он стал ругаться и требовать, чтоб его выпустили. Я понял только, что он где-то поскандалил и его заперли в холодную. На крики кто-то пришел, сказал несколько слов часовому, тот открыл дверь, и моего соседа выпустили. При слабом свете фонаря на путях я увидел, что он был в железнодорожной форме. Я остался один.
Время шло. На мне была только сатиновая косоворотка поверх белья, удары нагайки ее располосовали. Ночь стояла холодная, я стучал зубами и от нервного потрясения и от холода. Я мерз.
Уже не выдерживая, трясясь от озноба, я взывал к часовому, чтоб мне дали мое одеяло из мешка. Часовой ответил, что скажет, когда придет разводящий. Прошел еще, может быть, час. Явилась смена, я прокричал, что замерзаю, снова потребовал одеяло. Мне наконец принесли его. Я завернулся, согрелся, но не спал.
Утром за мной пришли два конвоира. Подвели к той теплушке, куда накануне был сдан мой мешок. Там топилась печка. Офицер в погонах вручил старшему конвоиру мое имущество. Меня повели на шумный купянский вокзал. Здесь конвоиры прошли со мной в жандармское отделение. Пришлось чего-то ждать. Толстый, огромный седой жандарм отнесся ко мне добродушно. Он поставил передо мной тарелку со сдобным печеньем, которое, как объяснил, накануне отобрал у какой-то торговки, пролезшей на перрон, и налил мне стаканчик желтоватого пахучего самогона. Я выпил самогон, согревший мое нахолодавшее тело, ел печенье, выпил еще стакан чаю с сахаром. Конвоиры повели меня дальше. Я пытался узнать, куда меня ведут. Ответ был — к коменданту города.
Мы шли какой-то улицей, остановились возле деревянного дома с палисадником. Старший вошел в калитку. В это время на веранду дома из внутренних комнат явились генерал и генеральша. Он, седой, без фуражки, бережно нес в руках большого белого кота, она, пышная дама, одетая в старомодное глухое черное платье, с бусами на шее, несла блюдце с молоком. Блюдце поставила на пол, генерал опустил к нему кота, и оба начали ворковать над ним. Конвоир обратился к генералу, доложил. Генерал нахмурился, не бросив даже взгляда в мою сторону, взял из рук конвоира бумагу, ушел в комнаты, вернулся, очевидно написав на ней что-то, отдал конвойному. Меня повели дальше. Я был со всеми формальностями сдан в купянскую тюрьму.
Читать дальше