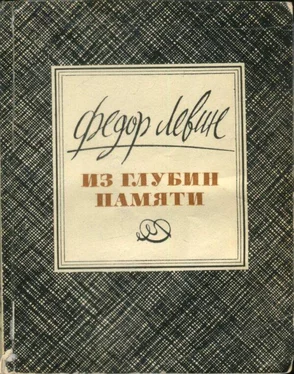— Подите скажите моей маме, что меня привели, — сказал я.
Мы пришли к коменданту города. Юрченко сдал меня и мой пакет, получил расписку. Я бы обнял этого рыжего, хмурого, неразговорчивого, мужественного человека, который был так добр ко мне, защитил, спас меня, рискуя собой. Но арестованному обниматься с конвоиром не полагается. Я попрощался с конвоирами, сказал: «Спасибо за все».
Местный караульный отвел меня в тюрьму при комендатуре. Я вошел в длинную большую пустую камеру. В ней не было ни души. На другой день я узнал, что перед самым моим приходом, накануне, карательный отряд расстрелял всех, кто сидел в тюрьме, и покинул Нижнедевицк, передав свои «дела» местному коменданту. А этим комендантом был назначен хромой родственник самого богатого из Сидоровых — Ивана Ильича. Этого человека я помнил, он был с нами месяц назад в отряде самообороны.
Через полчаса в камеру ввели еще одного арестанта. Это был заведующий коммунальным отделом Миляев, который ведал жильем и прочим хозяйством. Он не успел уйти со своими и скрылся из города в село, к каким-то родственникам. Там его и выдал кто-то. К счастью, не слишком рано. Ему повезло, как и мне. Я понимал теперь, что, не застрянь я в Валуйках, попал бы под ту последнюю расправу, которую учинили каратели. От Миляева узнал я о гибели Ефремова, о том, что белые расстреляли и Ваню Долгова.
К вечеру, уже в сумерках, принесли мне в камеру пальто. Мать, оказывается, известили, она прибежала к коменданту. Он сказал, что разберется. Она принесла зимнее пальто моего старшего брата, который еще летом был призван в Красную Армию. Пальто было на вате, с барашковым воротником, теплое, и я согрелся.
Комендант потребовал, чтоб мать собрала подписи знающих меня лиц, которые возьмут меня на поруки. Мать на другой день обошла всех, кто работал в финотделе, собрала под своим заявлением восемнадцать подписей. Я до сих пор не знаю, кто поручился за меня, знаю только, что и С. Ботвиньев, и Б. Образцов подписались.
Но освободили меня не сразу. Уже на другой день арестованных набралось множество, полная камера, все это были председатели сельсоветов, комбедов и другие активисты.
Дня через три меня выпустили. Я дал подписку о невыезде.
Снова жили мы у парикмахера. Шура ходил по деревням, ему подавали куски хлеба, этим мы питались. Попробовали перебраться в пустые комнаты верхнего этажа, но прожили там недолго. Началось отступление белых. Каждую ночь к нам врывались, вваливались какие-то солдаты, казаки, офицеры, ночевали в большой комнате на полу. К ним выходила только мать, мы с братом почти не показывались, сидели в другой, маленькой комнатушке, ему, подростку, появляться было как-то еще можно, мне — никак.
Помню, как в одну из последних ночей явилось к нам несколько офицеров с женщинами. Уже начались морозы, пали снега. Женщины кутались в платки, сидели в валенках. Их пальто и легкие шубки годились для города, а не для воронежских равнин. По разговору видно было, что все они — интеллигенты. Согрели во дворе на костре чайник, внесли в комнату, пили горячую воду с сахаром и окаменевшими баранками, невесело шутили. Один из офицеров старался развеселить женщин, пел:
Колет, рубит всех подряд
Наш братишка Шкуропат,
Жура, жура, журавель,
Журавушка молодой.
Они уехали утром на санях. В мерзлое окно я видел, как женщины жались друг к другу в санях-розвальнях. Офицеры приплясывали в своих шинелях. Кони тронулись по дороге на Горшечное. Ветер унес беглецов, как опавшие листья.
Еженощные тревоги нас измучили, к тому же неизвестно было, не захочет ли кто-то нас ограбить или убить. Мы снова перебрались вниз к парикмахеру. Здесь было тепло и спокойно, никто не лез ночевать, видя вывеску, а если и входили, то дальше нескольких ведущих вниз ступенек и «салона» не двигались, в жилые комнаты не входили, а брились и стриглись в передней комнате, которая и была парикмахерским «салоном».
Наконец настала ночь, когда пришли красные. Далеко за полночь поднялся стук. Пришлось открыть. Вошли двое, буденовцы. Один из них — черноволосый, весь обвешанный оружием — пошел в жилые комнаты. Он смотрел, кто тут есть, потом изучал фотографии, висевшие на стенах, там был снят кто-то в солдатской форме, это ему не понравилось. Потом он открыл дверь в маленький чуланчик, где висели платья и пальто хозяев, и вдруг выхватил наган и закричал:
— Выходи! Выходи! Стрелять буду, выходи!
Мы стали наперебой уверять его, что там никого нет, все здесь, в комнате, но он отмахнулся и еще громче крикнул:
Читать дальше