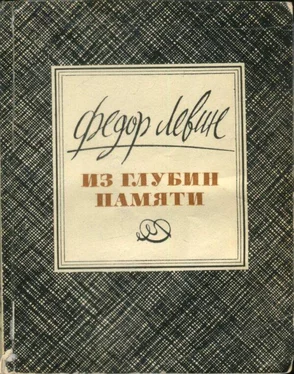Здесь в общей камере я провел три дня, нагляделся и наслушался всего. В камере был цыган, посаженный якобы за конокрадство. Его били шомполами, вся спина его была покрыта кровоподтеками, струпьями, опухшими багровыми полосами. Сидели крестьянские парни за дезертирство, за уклонение от мобилизации. Родные ежедневно приносили им большие передачи: белый хлеб, сало, яйца, творог, молоко. Иногда они угощали и меня. Сидел здесь черный худенький парень за воровство. Решетка на окне была починена, в одном ее углу вместо круглых прутьев виднелись плоские железные полосы. Мне рассказали, что здесь сидел какой-то комиссар и ему удалось отогнуть и вырвать угол решетки и бежать.
Мешок был со мной, но в нем остались только книги. Я пытался читать, но далеко не продвинулся.
Потом меня вызвали и опять по каким-то улицам отвели к военному следователю. Офицер требовал признания, что я комиссар. Следователь бился со мною недолго. Все-таки и слепому было бы видно, кто я такой. Я еще ни разу не побрился в жизни.
Меня вернули в тюрьму. Следователь сказал, что меня отправят обратно в Нижнедевицк для выяснения личности. Теперь я нетерпеливо ждал этой отправки, досадовал, что время тянется. Наконец за мной пришли новые конвоиры. Я был им передан. Старший конвоир имел при себе большой пакет с сургучными печатями: в нем содержались, как я после узнал, мой дневник и документы. Этот пакет сыграл потом важную роль.
Из Купянска поехали мы назад в Нижнедевицк. Но в Валуйках наше путешествие прервалось. Мои конвоиры сдали меня в городскую комендатуру, и я попал уже в Валуйскую тюрьму. Здесь мне пришлось посидеть еще три дня.
Я томился нетерпением и сгорал от досады. Мне представлялось, что, как только я окажусь в Нижнедевицке, все сразу разъяснится, меня освободят, а там будет видно.
Через три дня за мной пришли. Снова со многими формальностями выдали меня из тюрьмы. Два конвоира пошли со мной по улицам Валуек. Однако дело шло к вечеру, стало темнеть. Старший конвоир, плотный, широкоплечий, рыжий с сединкой донской казак лет сорока пяти, с серьгой в ухе, решил, что надо переночевать в Валуйках. Но где? Он предупредил меня, чтоб я молчал, не отвечал на вопросы. Я не понял, почему так надо. Он коротко объяснил: «Заночуем в казарме. Увидят казаки, что ты еврей, не было бы худо. Твое дело молчать».
Уже в темноте подошли мы к огромному бараку. Мой конвоир сказал что-то у входа дневальному, тот пропустил нас. В бараке было полутемно, кое-где горели свечи. Проход посредине, а по обе стороны сплошные низкие нары. Казачина провел меня в глубь барака, показал место. «Ложись, укройся и спи».
Утром, раным-рано, еле светало, он разбудил меня. Мы вышли из казармы, никого не потревожив, пошли к станции. Второй конвоир, молодой светловолосый солдат из мобилизованных, болтал без умолку. Возле самого вокзала нас догнала пролетка, в ней сидел генерал. Он сказал кучеру:
— Придержи. — Лошадь дошла шагом. — Кого ведете?
— Так что арестованного, будто комиссара.
— Комиссар, жид? Чего ж его вести? Стреляйте, скажете — при попытке к бегству. Я отвечаю.
Мой казак молчал. Генерал толкнул кучера в спину, тот тронул вожжами, и пролетка умчалась. Мобилизованный хмыкнул:
— У него сын в красных, он и злобствует.
Уже разгорелся день, когда мы сели в теплушку. Поезд пошел на Горшечное. Ехали мы медленно, долго стояли то здесь, то там. По дороге я рассказал конвоирам все о себе. Они делились со мною едой. Спустилась ночь, я лег на полу спать. Просыпаясь, я видел, что конвоиры спят по очереди.
— Не сомневайтесь, спите, — сказал я казаку, — я не убегу.
Он сухо сказал:
— Не полагается.
Утром поезд пришел в Горшечное. Мы отправились пешком в Нижнедевицк. Идти надо было верст пятнадцать. Мы шли обочиной шляха. Я завернулся в свое одеяло. День был пасмурный, прохладный, по обе стороны дороги тянулись яркие зеленя. Донской казак был неразговорчив. Я узнал только, что его фамилия Юрченко, что он был на германской.
Где-то посреди пути навстречу показалась коляска. Она приблизилась. В ней сидела одна из дочерей купца Сидорова, я ее знал, она работала в каком-то из отделов исполкома. Красивая девушка лет двадцати.
Увидев меня, она ахнула, сказала кучеру, чтоб остановился, и стала меня расспрашивать, почему я под конвоем, куда меня ведут. Нарядная, розовая от прохлады, она ахала при каждом моем слове, потом сказала конвоирам:
— Это очень хороший мальчик, он все правду говорит, вы его не обижайте. — И улыбнулась, как божий ангел.
Читать дальше