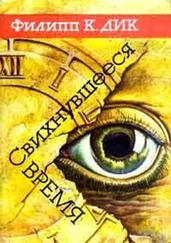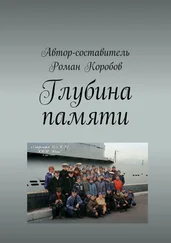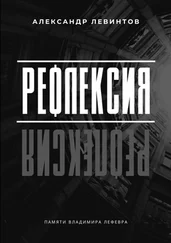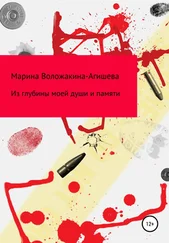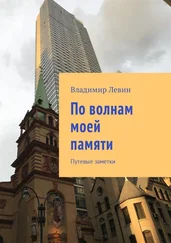Рецензирование книг давало Платонову какие-то минимальные средства к жизни. Занимался он обработкой народных сказок. Конечно, главной своей работы Платонов не оставлял. В эти предвоенные годы опубликовал он один из самых замечательных своих рассказов — «Июльский дождь».
Я встречал Платонова в редакции, у ворот усадьбы, когда я шел на работу или домой, а он выходил прогуляться. Было в нем что-то привлекательное, приятное.
«Литературный критик» был закрыт и с начала 1941 года уже не выходил. «Литературное обозрение» стало органом Института мировой литературы имени А. М. Горького, и у него появилось немало «нянек». Вышедшие номера стали обсуждаться на заседаниях отдела советской литературы этого института с участием «зарубежников». Неизвестно, как сложились бы дела дальше, но разразилась война. Я ушел на фронт, после этого вышло еще три или четыре номера, и журнал приказал долго жить. В годы войны я с Платоновым не встречался, но читал некоторые его военные очерки и рассказы, из которых мне особенно запомнился рассказ «Одухотворенные люди». И после войны по нему снова был нанесен страшный по своей силе и последствиям удар. Платонов поместил в «Новом мире» великолепный рассказ «Семья Иванова» (теперь он печатается под заглавием «Возвращение»). Критики набросились на рассказ. К проработке приложили руки многие, в том числе В. Ермилов. Много лет спустя, уже незадолго до своей смерти, Ермилов печатно сказал о том, что эта статья его была ошибочна и несправедлива. Но к тому времени Андрей Платонов уже давно лежал в могиле. Что ему было толку от запоздалой самокритики Ермилова? Но ничто не отвращало Платонова от веры в то, что он делал, от его убеждений и взглядов. Ради них, ради литературы он долгие годы терпел гонения и несправедливость. Сколько мужества потребовалось ему! Мало кто вспоминал, с какой радостью А. М. Горький в свое время встретил его книгу «Епифанские шлюзы».
В 1945 году после окончания войны я более полугода был в наших войсках в Австрии, Венгрии, Румынии. А моя семья еще в 1943 году возвратилась в Москву из Чистополя — из эвакуации. Дочка моя покашливала, и жена решила проверить ее легкие. Она отправилась с нею в тубдиспансер. Там сделали рентгеновский снимок. Жена получила его и стояла вместе с дочкой, рассматривая пленку и пытаясь разобраться в ней. Внезапно кто-то взял у нее снимок из рук. Она с недоумением подняла голову, перед ней стоял Андрей Платонов. Он внимательно посмотрел пленку, вернул ее и сказал: «Все хорошо, идите отсюда, не надо вам сюда ходить, кругом туберкулезные, мы все заразные». И стал настойчиво подталкивать жену и девочку к выходу. Сам он в это время уже был болен туберкулезом, заразившись от умиравшего на его руках сына.
Андрей Платонов в 1951 году скончался от пожравшей его болезни. Прошло еще семь лет, пока его вдове удалось издать сборник его прозаических произведений. Это далось ей и мне, редактору книги, с большим трудом, пришлось преодолевать немало сомнений, опасений. Зато когда книга вышла, она внезапно приобрела необычайную популярность. Поэт М. Дудин сказал о книге добрые слова на писательском съезде. Он процитировал из «Фро» слова отца Фроси, старого машиниста на пенсии: «Без меня народ неполный» — и указал на глубокий смысл этих слов. Молодежь буквально «открыла» для себя Платонова. Вспомнили высокую оценку его творчества Хемингуэем. Для литературного наследия Платонова началась новая и на сей раз славная жизнь. Одна за другой появились его книги — в Гослитиздате, в Воениздате, в «Московском рабочем». Его прежде неопубликованные произведения стали печататься в московских журналах, газетах, в периферийных журналах.
Интерес к Платонову, к его творчеству, к его критическим статьям все растет. Время от времени перепечатываются из старых изданий его статьи, о нем кроме меня написали многие: Ф. Сучков, В. Дорофеев, Л. Шубин, И. Крамов и другие. Печально, что он не дожил до признания, до славы — они продлили бы его жизнь, помогли одолеть любую болезнь. Догадывался ли он об этом будущем признании?
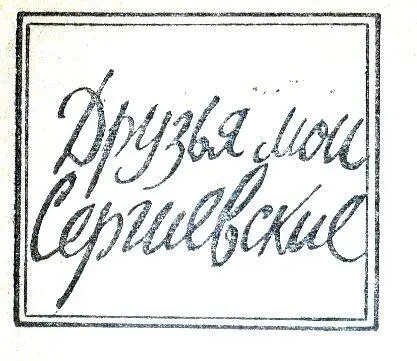 Обоих этих моих друзей в живых уже нет. Были это прекрасные люди и настоящие друзья, и я пишу о них, потому что хочу, чтоб не ушли они в небытие, не были совсем забыты.
Обоих этих моих друзей в живых уже нет. Были это прекрасные люди и настоящие друзья, и я пишу о них, потому что хочу, чтоб не ушли они в небытие, не были совсем забыты.
Познакомился я прежде с Марией Яковлевной. В 1934–1935 годах она появилась в литературной консультации издательства «Советский писатель». Всякий знает, что в литературные консультации присылалось множество стихов, рассказов, повестей и даже романов, большей частью беспомощных, зачастую малограмотных. Роясь в этой куче, иногда можно было все-таки наткнуться вдруг и на что-то стоящее. И вот тогда-то Мария Яковлевна приходила ко мне рекомендовать свою находку.
Читать дальше
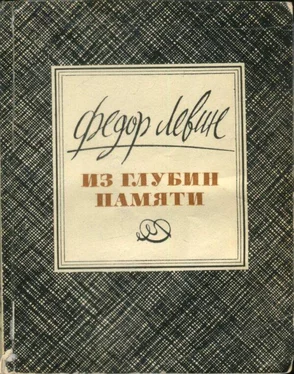
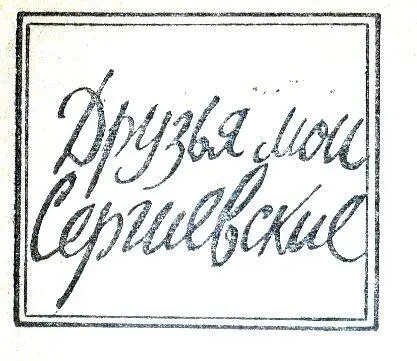 Обоих этих моих друзей в живых уже нет. Были это прекрасные люди и настоящие друзья, и я пишу о них, потому что хочу, чтоб не ушли они в небытие, не были совсем забыты.
Обоих этих моих друзей в живых уже нет. Были это прекрасные люди и настоящие друзья, и я пишу о них, потому что хочу, чтоб не ушли они в небытие, не были совсем забыты.