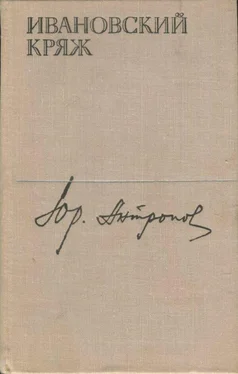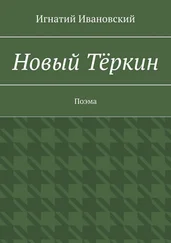— Да какая ррразница-то? — утешил его Агейкин. — Что двумя, что одним глазом одинаково, понимаешь ли.
— Ну да там…
— Правда-правда! Я знаю. У меня ведь два глаза. Я же могу проверить. Вот! — Агейкин закрыл левый глаз, плотно прижал его пальцем и долго оглядывался, придирчиво осматривая и заеложенные стены проходной, и потолок с мутным плафоном, и цементный пол. Потом отнял от закрытого века палец, разодрал слипшиеся ресницы, проморгался и так же обстоятельно осмотрел все двумя глазами, наглядно доказывая Комракову, что эксперимент поставлен со всей научной тщательностью.
— Все то же самое. Одна и та же каррртина. Что одной гляделкой, что двумя.
Иван Игнатьевич, неопределенно улыбаясь, и слушал и не слушал Агейкина, вовсе и не глядя на него. Оказавшись в тупике, он был вынужден проверять пропуска, которые то и дело раскрывали перед ним те, кто торопился на смену.
— Картуз с околышем давай, — пошутил он.
Но Агейкину этого было мало. Ему захотелось привести еще один довод, по которому выходило, что жить с одним глазом было даже удобнее. То есть не то чтобы удобнее, но выгоднее.
— Тебя же, Комраков, и в арррмию не брали!
— Не брали, — повернулся к нему Иван Игнатьевич, — хотя я и просился столько раз. У меня ж левый с бельмом-то. Я в сорок первом пришел в военкомат и говорю: «Я все равно при стрельбе его прищурю, левый-то». А военком мне: «Нет и нет. В тылу сгодишься». Я расстроился, а новобранцы острят: мол, тебя же, Комраков, в пешем строю, на марше, вправо заносить будет…
Кто другой, может, и посмеялся бы, но Агейкин, когда речь заходила о войне, вспоминал свой первый бой, в котором осколком гранаты развалило ему всю левую щеку. Он машинально всякий раз ощупывал шов от уха до подбородка и горько удивлялся: «Это ведь надо так! Изуродовало в первом же бою…» Но минуту спустя он говорил себе: «Это еще дешево отделался. Других в первом же бою убивало наповал».
— А меня, Комраков, видишь, как царррапнуло…
— Это тебя на войне?
— А где ж еще?
— Я и не знал…
— А тебя из-за глаза не взяли.
— Не взяли. Но я же не виноват!
— Не виноват. А могли убить. В первом же бою. Вообще бы тебя не было теперь.
«Ну да, конечно, — обиделся Иван Игнатьевич, — некому было бы сейчас капать тебе на мозги».
— А меня этот случай с военкоматом, — сказал он, — по-другому как-то к жизни повернул. Я тогда-то, вскоре, и приехал сюда эвакуированный завод поднимать на новом месте. А до этого болтался где попало. Начиная с детской колонии.
— С колонии?
— Ну. Везде побывал. И в колонии, и в детдоме. В колонию попал, когда отца на гражданской убили, а мать умерла. Родня деревенская разобрала нас троих кого куда. Устин и Наум младше меня были, так и остались в деревне, а я вскоре убежал в город — не верил, что тятю убили, хотел разыскать… Хлебнул под завязку. Так что долго потом жил по запаху.
— Как это? — не понял Агейкин.
— А так. Откуда съедобным пахло — туда и тянуло. После колонии в детдоме был, а когда подрос, в колбасный цех попал, кишки набивал фаршем. Потом на Балхаше рыбу коптил. Вот где рыбы-то было! Ешь — не хочу. Там-то я и с Аней встретился. Она мне как-то и заявляет: «Меняй профессию, а то дружить с тобой не буду!» — Иван Игнатьевич, как бы до сих пор дивясь этой ее выходке, покачал головой. — Дескать, рыбой от меня все время пахнет. Ну, шутки шутками, а подался я на курсы счетоводов. И до самой войны работал в бухгалтерии хлебозавода. А однажды даже бухгалтера замещал. Во, брат, как!
Агейкин хохотнул. Такой биографии Комракова он и представить себе не мог. С колбасы человек начинал, а кончил свинцом.
— Чудеса в решете! Тебя все время по пищевой части тянуло, директором хлебозавода был бы или какой-нибудь кондитерской фабрики, а теперь ты никто. На каких-то паршивых терриконах помешался. Судьба-индейка!
— И не говори! — вздохнул Иван Игнатьевич, будто показывая, что он и сам не рад тому, что с ним творится. — Если б не война…
— А я тоже после войны сменил профессию, — сказал Агейкин, выждав момент, когда в проходной никого не было. — Я ж парикмахером работал до призыва. Стррригбрррил! — скованно засмеялся он и быстро-быстро задвигал в воздухе пальцами, словно в них были ножницы.
— Парикмахером?!
— А что? Еще каким парикмахером-то! Теперь, может, директором бытового комбината был бы. Я тогда, понимаешь ли, застеснялся. С таким шрамом, думаю, только клиентов отпугивать. Да и вообще не те уже деньги были, что до войны, меньше клиентов стало. Вот я и махнул на завод, тогда тут льготы большие были. Тоже судьба…
Читать дальше