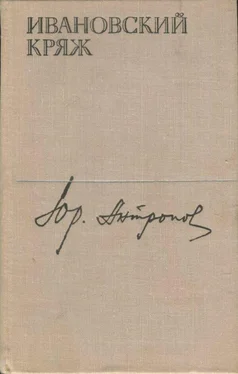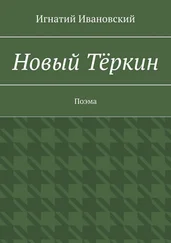— Мало ли что, — возразил Агейкин. — На нашем комбинате, считай, несколько тысяч рабочих. Если каждый будет рррассуждать, как ты…
— Каждый не будет, — отмахнулся Иван Игнатьевич. Но что-то в нем уже изменилось. В глазах исчез острый, хищный блеск, пугавший Агейкина. В одно мгновение пропало у Ивана Игнатьевича желание поведать вахтеру, как собирался поначалу, о своем разговоре с первым секретарем обкома.
Только об одном не мог умолчать Иван Игнатьевич, Не хватило у него сил, чтобы так и похоронить в себе ту радость — пусть и короткую, призрачную, — которая возникла, когда его, Комракова, сам начальник плавильного цеха назвал вчера плавильщиком. Будто он был им всегда и оставался — не кем-то иным, кем сделала его судьба за последние пять лет, а именно плавильщиком. Ведь в душе-то Иван Игнатьевич ни разу не изменил этому своему ремеслу, которое считал для себя самым главным. Считал потому, что за два десятка лет прикипел к этой работе, как свинец к вангресу. Может, были где и какие получше профессии, это уж кому как, но для него вся жизнь сомкнулась на плавилке.
Однако не успел Иван Игнатьевич заикнуться, как Агейкин охолодил его ухмылкой:
— Эко диво! Плавильщиком он его назвал… Министррром, как же! Депутатом! Героем труда или там еще кем…
Иван Игнатьевич неожиданно для себя сорвался на крик.
— Да ты чего болтаешь?! Чего ты путаешь-то кислое с пресным? — с обидой в голосе произнес он. — Мини-и-стром… У тебя уши есть или нету? Исключительный ты дуб, Агейкин! И удивляться тут не приходится.
Он махнул рукой и ринулся в турникет.
— Иван, ты что?! — вскочил с табуретки Агейкин. — Что я тебе такое сказал? — Он как бы в шутку перекрыл проход красным железным патрубком, и Комраков оказался в западне.
— Пусти, а то поломаю!
— Ломать нельзя. Начальника вахты позову.
Агейкин расторопно открыл второй проход, чтобы не скапливалась пробка, и когда Иван Игнатьевич хотел поднырнуть под патрубок, вахтер коротко свистнул в милицейский свисток.
— Сдурел? — испугался Иван Игнатьевич.
— А ты не ломись. Посиди маленько на табуретке. Охолони чуток. Я ж тебе, Иван, ничего такого не сказал… — Агейкин виновато улыбнулся.
— «Не сказал»… С тобой как с человеком, а ты…
— А что я? Ну назвал тебя Малюгин плавильщиком. Ну и что с того? Плясать мне, что ли? Я бы, может, еще удивился, если бы тебя обратно плавильщиком взяли, а так…
Иван Игнатьевич вздохнул.
— Да нет уж, теперь не возьмут. Разве что если война случится.
— Какая война?
— Никакая. Глупый ты, Агейкин, и не лечишься. Это мой Бориска так говорит. Не обижайся. Сам посуди, разве возьмут меня в плавильный цех, если пять лет назад, когда я моложе был, отставили от печи как непригодного?
— А почему отставили-то? Я ж так и не знаю, — смутился Агейкин. — Ты же тогда в другой смене работал. Из-за зрения, что ли?
— Ну. Из-за него. — Иван Игнатьевич отвернулся, чтобы вахтер не разглядывал его левый глаз. — Бельмо у меня. Еще с детства. Мать мух выгоняла, махнула тряпкой, известка попала в оба глаза. А я был молочный, в люльке качался. Натер глаза кулачками. А надо бы промыть сразу. Мать-то не хватилась. Не догадалась. Ревет и ревет дите. Поревет да перестанет. А глаза-то и давай болеть. Рассказывали потом, что обложило их белым — как у вареной рыбы стали. Ну, бабка одна взялась лечить — мол, попробую хоть один глаз, правый который, вылечить.
— Везет тебе на бабок, — сказал Агейкин.
— Не говори. Да тогда и время-то было какое. Шестнадцатый год. Какие уж там врачи…
— Ну и бабка-то… — навел Агейкин на продолжение рассказа.
— Сахарином она бельмо строгала.
— Как это?
— А так. Он же мелкий, как пыль, сахарин-то. Сыпанет в глаз — и моргай. И ведь поди ж ты! — будто впервые подивился Иван Игнатьевич. — Сострогала бельмо. Спасла мне глаз. Я ту бабку частенько поминаю… Жалко, конечно, что не оба глаза строгала. Уж рисковала бы до конца. — Он помолчал и смущенно признался Агейкину: — Интересно все же мне, как это двумя глазами смотрят? Охота хоть разок поглядеть вокруг двумя глазами.
Агейкин никогда прежде не видел Комракова таким — стоял тот перед ним в переплете труб какой-то потерянный, постаревший сразу лет на десять. А ведь поначалу-то думалось об этом неуемном человеке, что все в его жизни складывается как нельзя удачно, вечно бегает шумный, задиристый, ни о чем таком не печалится. Вернее, если и выпадают какие передряги, то кто-кто, а уж Комраков находит из них выход, голову вешать — не в его привычке.
Читать дальше