— Из Италии?
— Ну да. Сначала от полиции, потом от фашистов Муссолини. Наверно, в тот момент отец и решил, что это уже чересчур. Он переехал сюда, в Лилль, и открыл здесь книжную лавку. Думаю, он сделал это на партийные деньги, потому что книги подбирались в основном революционные, с упором на анархизм. По сути, это был клуб анархистов со всего света: итальянцы, бельгийцы, французы, немцы, испанцы, ребята из Латинской Америки… Видимо, сначала предполагалось, что это временно. Что революция победит, и каждый сможет вернуться в свою страну, чтобы жить с революционным народом.
Нина Брандт иронически подняла брови.
— Возможно, я неправа, но «каждому» все-таки предпочтительней жить с женщиной. Или с мужчиной. Или с козой. Но жить с народом, да еще и революционным, наверняка очень утомительно.
Клиши подмигнул Игалю.
— У твоей жены хорошее чувство юмора. Да и по сути вы правы, мадам. В 28-м отец встретил маму. Ее звали Жанна Себаг, ей было двадцать два года, на двенадцать лет младше него. Они венчались в церкви по католическому обряду. Через два года родился я, затем Люси. Она сейчас в Лионе. Мы жили, как обычная нормальная семья. Книжная лавка приносила доход — отец прекрасно разбирался в литературе, знал, что заказывать, поставлял школам учебники…
Мсье Клиши тяжело вздохнул.
— А потом началась эта проклятая заваруха в Испании, и жизнь полетела ко всем чертям. Мне шел седьмой год, но я помню те дни, как вчера. Отцовская лавка всегда была клубом, но в июле 36-го она превратилась в настоящий штаб. Приехал друг отца Умберто Марзоччи, с которым они готовили революцию в Италии в начале 20-х. Откуда-то слетелись десятки других, молодых, горячих. Они слушали сводки новостей, сопоставляли сообщения испанского, французского, британского радио.
Сначала были известия о военном мятеже по всей стране. Генералы высадились на юге, захватили Севилью, Барселону и северо-запад, вот-вот падет и Мадрид… Все сидят, как на похоронах, молчат, и лица у людей черны от горя и гнева. Но вот проходит два-три дня, и все меняется самым волшебным образом. Вооруженный народ отбил Барселону! Расстрелян предатель-генерал Годед! Рабочие атакуют мадридские казармы Монтанья! И повсюду впереди, во главе революционной массы — наши братья-анархисты, еще месяц назад пившие вместе с нами вино возле этих вот книжных полок! Геройски погибший Франсиско Аскасо! Геройски сражающийся Буэнавентура Дуррути!
Но чем больше радовались отец и его товарищи, тем больше слез лилось из маминых глаз. Она-то понимала, что нет такой силы, которая может удержать этих людей в стороне от событий. Так оно и случилось, Игорь. К началу августа в клубе не осталось никого. Все уехали защищать революцию, и отец вместе с ними.
Клиши снова тяжело вздохнул и потер ладонью лицо.
— Сначала мы получали от него письма с юга Испании из Андалусии и Мурсии. Гранада, Альмерия, Аликанте… Получали и радовались, потому что самые кровавые бои шли вокруг Мадрида и на северо-западе. Думали, что на юге он в большей безопасности. А потом письма вдруг прекратились. Мы не знали что и думать, пока не вернулся папин друг Умберто Марзоччи. Он-то и рассказал маме, что отца арестовали сталинисты, держали несколько месяцев в тюрьме, а затем расстреляли по обвинению в шпионаже. Отца — в шпионаже! Могли бы придумать что-нибудь более правдоподобное…
Доктор Островски сочувственно положил руку на плечо хозяина.
— Да, мы в курсе, мсье Клиши. Ваш отец погиб в ходе операции НКВД накануне Рождества 1937 года.
— Что? Что ты сказал? Кто погиб?
Клиши поднял голову и теперь смотрел на Игаля с выражением безмерного изумления.
— Кто погиб? — повторил он. — Отец не погиб, но смог прислать нам весточку лишь тридцать лет спустя, в 69-м.
— Как это не погиб? — едва слышно вымолвил Игаль. — А что же с ним стало?
Мсье Клиши поднялся с кресла, постоял, обвел комнату отсутствующим взглядом и снова сел.
— Ты и впрямь ничего не знаешь? — проговорил он наконец. — Все это время он жил в России. Сначала на Колыме, а потом в Москве. Жил под именем Наума Григорьевича Островского, твоего деда.
8
Доктор Островски проснулся с жуткой головной болью и сердцебиением. Тяжелый коровий язык едва помещался во рту, а при попытках сдвинуть его с места царапал нёбо. Это состояние называлось сильнейшим похмельем и помнилось доктору по стародавним, чуть ли не студенческим временам. Вероятно, из-за этой давности он не сразу сообразил, где он, — даже когда, совершив героическое усилие, смог приоткрыть глаза. Чужая комната, чужой запах, угол незнакомого журнального столика… Преодолевая панику, он напряжением всех сил перекатил глазные яблоки вбок и, сдвинув таким образом поле зрения, обнаружил в нем дверь с черно-белым планом эвакуации. Гостиница. И не просто гостиница, а гостиница в Лилле. Тесная гостиница в скупердяйском французском городе Лилле, где вчера он напился так, что начисто не помнит, как ухитрился добраться сюда своими ногами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)

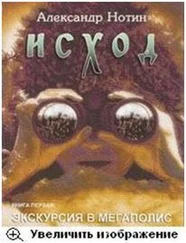

![Алексей Сальников - Опосредованно [журнальный вариант]](/books/423483/aleksej-salnikov-oposredovanno-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)
![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)
