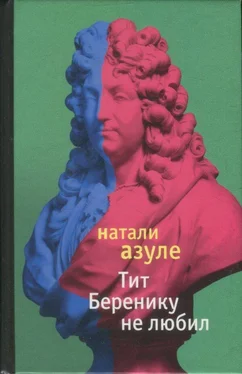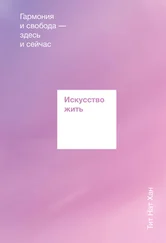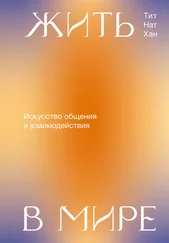— Ну наконец-то! Я так жду вашего чтения! — встречает его король.
Один за другим у Жана родились еще дети. Катрин надзирает за всем выводком. Каждое новое чадо окружает такой же заботой, что и предыдущее, порой унимает чересчур умиленного Жана, поддерживает, так сказать, постоянный, умеренный климат в семье. Когда порой супруга раздражают какие-то служебные тяготы, Катрин призывает его уповать на Божью милость. Если же не помогает и это, напоминает, что у них растут здоровые дети, — счастье, которое надо ценить. На все у нее есть ответ, все оборачивается у нее во благо.
«Мне повезло, — говорит он Никола, — только и слышу о милостивом, бесконечно добром Боге. Такое никогда не наскучит».
За два протекших года эта благость наполняет его душу надежнее, чем все медовые потоки, что протекали в ней прежде. Эта сладость гораздо устойчивей. А еще Жан заметил, что блаженное чувство, возникающее во время молитвы или причастия, возникает не в животе, а выше, наверно в самом сердце, которое теперь способно сжиматься, не разрываясь, даже при такой вести, как смерть Амона.
Человек, который был при нем в последние часы жизни, рассказал, что он неотрывно смотрел на распятие и говорил: Иисус, Мария, sponsus, sponsa [75] Жених, невеста (лат.) — то есть Иисус и Церковь (Мария).
. Четыре коротких слова, завершенный, симметричный, замкнутый ряд. И еще одно, пятое слово чуть громче: тишина . В последнее время Амон не только лечил монахинь, но и выполнял любые другие обязанности, даже исповедовал их в отсутствие духовника. Спал он до самого конца на простой лежанке из голых досок. Никола почтил память этого святого, а Жан не написал ни единой строчки. Лишь повторял нараспев четверословие умирающего: Иисус, Мария, sponsus, sponsa.
И словно слышал внутреннее эхо, другой, параллельный, со светским значением ряд: Тит, Береника, invitus, invitam [76] Нежелающий, нежелающую (лат.). См. эпиграф к роману.
.
Тот же свидетель вручил ему рукопись, предупредив, что она тайная, так как содержит нечто запретное. Несколько дней Жан не отваживался взять рукопись и полистать, когда же все-таки начал читать, то не мог оторваться. Амон на трехстах страницах говорил об одиночестве и порицал любовь ко всему светскому. Жан восхищен такой последовательностью, сам он был не способен написать что-либо больше длинной поэмы, а в нынешней своей хронике постоянно разбрасывался. Он отделял глазами отдельные фразы, как снимают с плода кожуру. «Заметил, что я слишком много бываю на виду… Кто блистает и много говорит, тот упадет и обратится в ничто». Строки глядят на Жана из кельи, в которой старец испустил дух, из лазарета, где он, мальчишкой, бывал у него столько раз. От подножия осин. Они укоряют его — и это не суровое осуждение, а неопровержимая сила примера. «Как можно быть таким смиренным?» — с болью в сердце думает Жан. Чем дальше он читает, тем больше чувствует себя рядом с Амоном, на издавна привычном месте. Снова слышит знакомый голос и даже стук спиц. Никто не помешает им, никто не прервет их последнюю беседу. «Такие фигуральные объяснения обычно заключают в себе разом и саму истину, и ее образ. А слияние истины с образом делает ее более ощутимой, понятной и проникновенной. Образы дольше задерживают ум на тех же истинах, тем самым добавляя яркости и силы, помогают запомнить, служат некой искусственной памятью».
Жан останавливается, садится с рукописью за стол, отмечает прочтенное. Давно он не читал ничего лучше. Вот почему он гонится за образами, вот почему без них никак не обойтись в трагедиях и почему, наоборот, они неуместны в хронике царствования — деяния короля и без того достаточно ярки. Его дело — всего лишь запечатлеть их в обычной, естественной памяти. Но понимает он и другое: лишь в Пор-Рояле придают умам такую остроту и трезвость.
Жан обещал вернуть рукопись лично, приехать в монастырь и передать ее в верные руки. В тот день король осведомился, где его историограф — ни при дворе, ни дома его нет. Никто не знает, говорят ему, зато знает он сам и мысленно видит аллеи непокорного монастыря.
Жан направляется на кладбище. Бродит между надгробий, стоит перед каждым. Все эпитафии написаны Амоном. Они повсюду, куда ни глянь. Свищут в уши, как встречные ветры. Успокоившись, он их читает вслух. Какая безупречная латынь, как скупы, нехвалебны похвалы. Все тут словно записаны в некую книгу, ни одна строчка из которой никогда не сотрется, все высечено в камне на века. На обратном пути все сто ступеней вверх он прополз на коленях, как делали — он часто это видел — кающиеся монахини. И дал волю слезам. Еще несколько дней после этого израненные ноги не могли ходить.
Читать дальше