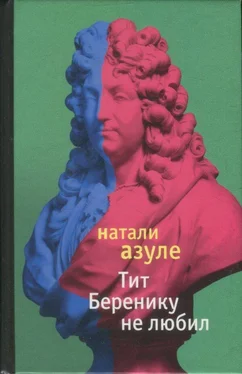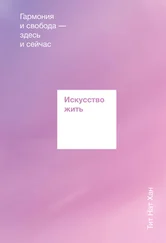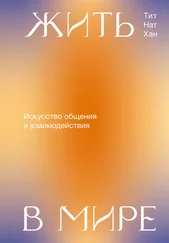«Эсфирь» имеет громкий успех. Король каждый вечер осыпает его похвалами, Ментенон полна гордости, отбирает придворных и не позволяет публичных представлений. Спектакли идут в помещении школы, для двух сотен зрителей, тогда как желающих тысячи. Вот это возвращение — под гром фанфар! — твердят ему со всех сторон, но сам он о своей «Эсфири» говорить почему-то не может. Все, что действительно принадлежит ему, сводится к его должности, его служебным делам, его имуществу, его семье. Не потому ли, перечитывая пьесу, он находит ее пресной? Стихи легко понять, они текут — прозрачная водица. Надо слушать их с музыкой, — уговаривает он сам себя, но как-то не слишком успешно.
Дортуары и аллеи парка охвачены безумием. Увлеченные им, воспитанницы говорят стихами. Ментенон начала опасаться за их добродетель. Как бы их рвение не превратилось в страсть. В следующий раз надо надежнее предохранить их от соблазнов сцены и поэзии, чтоб этот хмель не бросался им в головы. Жан сделал вид, что не услышал, а повторять она не стала, догадываясь, что он видел, как снова дернулась ее губа.
Тетушка тоже опасается, как бы обитель не превратилась в вертеп и в молодые души не проникли семена порока. При слове «молодые» лицо ее окостенело, Жан понял: «молодость» представляется ей чем-то призрачным, позабытым, она давно окружена старухами-монахинями, и будущее для нее — всего лишь булавочная головка в море тьмы. Кому, как не ему, известно, говорит он в ответ, что наша душа состоит из различных извилин, куда так легко внедрить любую причуду; сначала слабенькая, как былинка, она там разрастется и заполонит собою все. Крупица ржавчины грязнит невинность, и он сам был бы рад поместить своих дочерей под защитный колпак, чтобы ничто их не смутило, не испортило, чтобы ни искры похоти, способной разгореться в пагубную страсть, в них не могло проникнуть, чтоб они были как святые. Агнесса прерывает его покаянные речи и хвалит за то, как ярко в его пьесе показаны гонения. Впервые за много лет глаза ее блестят от радости.
На дочерей он смотрит как на чудо, хоть иногда и сетует жене, что их многовато; зато они здоровы, говорит Катрин, и он, устыдившись, берет свои слова обратно. Ведь стоит кому-нибудь из детей заболеть, особенно когда он при дворе, он погружается в мрачную бездну, его терзает страх, он уповает лишь на Бога. Если болезнь не отступает и усугубляется, воображение рисует ему жуткие картины: от него отрывают дитя и расчленяют тот единый организм, в какой срослась его семья. Когда же наконец Катрин присылает хорошие вести, он отвечает радостными излияниями, словно меха раздувают его восторг и мед течет по пальцам, он пишет нежные слова, называет жену «душечкой», целует ее руки и ручки ребятишек, благодарит небеса.
Ментенон заказывает ему новую драматическую поэму. Король, уверяет она, хочет лишь одного: слушать ваши стихи. Все королевство нынче для него сосредоточено в Сен-Сире, он не отправляется больше в походы, а посылает вместо себя сыновей, старый солдат нуждается в старом поэте. Не прошло и двух месяцев после премьеры «Эсфири», Жан убежден, что успех его пьесы случаен, незаслужен и объясняется лишь высочайшею милостью, однако он снова садится за работу.
— Это заслуженная милость, — поправляет его Никола. — Разве вы сами не видите, что даровали нынешней эпохе особенный язык?
Это его самое заветное желание, но оно до конца не исполнилось ни в этой пьесе, ни во всех предыдущих. Он не Вобан, не Лево [79] Луи Лево (1612–1670) был первым архитектором короля, среди его работ — Версальский дворец.
, материя, с которой он работает, не так прочна, как камень.
Он возвращается к пятиактной форме и длинному александрийскому стиху, отодвигает хор на задний план и следует своей излюбленной идее о том, что пение не должно мешать декламации. В пьесе содержится все то же: ужас и жалость, родственные узы и кровопролития. Жан не стесняется самых банальных приемов, в центр интриги ставит сон. «Но это будет не просто пустое видение, а страшное воспоминание, шрам», — обещает он другу. И насыщает сон Гофолии выпуклыми деталями, явственными образами, которые публика видит глазами, эти стихи как черное пятно на светлом фоне, лохмотья ночи среди бела дня. Мрачные тени, кровавая плоть — частица Дидоны в трагедии о Гофолии.
— Не забывайте: вы пишете для детей, — напоминает ему Никола.
Ментенон то и дело осведомляется, готова ли пьеса, Жан каждый раз берет отсрочку. Но вот он, наконец, закончил, и теперь Ментенон никак не начинает постановку. Жан, честно говоря, не очень удивлен, но горько думает: видно, терпеть унижения — участь поэта. «Вас призывают, вас умоляют, о вас забывают», — с усмешкой говорит он Никола. Дает зарок, что больше он на эту удочку не попадется, ну а пока читает свою пьесу в столичных салонах.
Читать дальше