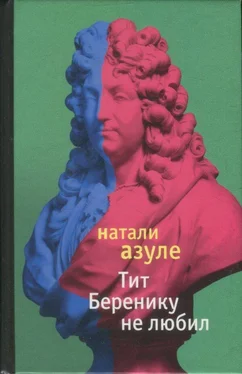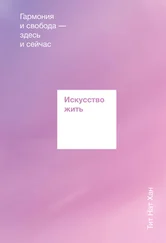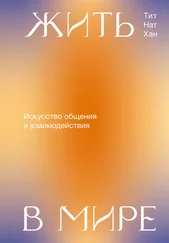— Наверное, моя мечта — язык, устроенный яснее и проще, — признается Жан.
Столь оглушительный успех влияет на его любовницу — она теперь совсем другая. Уже не заставляет его ждать, не отменяет свиданий, не смотрит свысока, всегда смиренна и покорна. Неделю за неделей Жан наслаждается полной гармонией, и в третьем ярусе Дидона снова остается в одиночестве. Однажды утром Дюпарк сообщает ему, что беременна. Он целует ее живот, как целовал бы ладонь, которая сумеет сгладить все шероховатости. А ночью, когда актриса засыпает с ним рядом, тупо глядит в темноту и думает, не придется ли снова переходить на элегический лад, раз теперь у него под ногами простирается ровная почва, без трясин и ухабов. Овидий и Софокл бессильны. Что ж, он себя не принуждает и решает написать комедию. Репутация его от этого только выиграет, он прослывет многоликим мастером, как Корнель и другие, кого не останавливают границы между жанрами. Большой поэт должен уметь писать все, да и коварному Мольеру после той пародии не худо бы в отместку показать, что и он, Жан, способен вторгнуться в чужую область. Это будет фарс, по мотивам Аристофана. Жан берется за дело, но что-то мешает работать, ему не по себе, словно он выступает a capella , без всякой страховки. Тогда он бросает перо, спешит приникнуть к ней, вдыхает запах ее кожи, прижимается лицом к ее груди, напитываясь силой этого вдвойне живого существа. А почему бы вообще не перестать писать и не зажить, как все, нормальным обывателем… Так продолжалось до тех пор, пока около месяца спустя она не объявила, что ребенка не оставит. Все смутные мечты рассеялись, Жан принял это, не ропща, не возражая, и поддержал ее решение.
Он ждет, один, у себя дома, постоянно глядя на постель: вот здесь он обнимал ее белое, цельное, не порожнее тело, а вернется она перепачканной и выпотрошенной, как дичь. Она предупредила, что все может затянуться, и велела не являться к ней без разрешения. Под вечер следующего дня он получил известие: Дюпарк не выжила. Жаркое пламя охватило его ноги, чресла, грудь. Миг — и он весь пылает, как костер из костей и поленьев.
Сознание прячется от боли, изобретает уловки, внушает, что все это было сном и он ее сейчас увидит, или хуже: что не о чем жалеть, ведь счастлив с ней он был лишь несколько недель, а мучился долгие месяцы. Иногда по утрам лицо его — сплошная рана, и целый день льются слезы. Если же ночью удается поспать, то наутро глаза открываются, как рот для рвоты: дни без Дюпарк тошнотворны. Между набрякших век протягиваются нити света, слишком белого, резкого, нестерпимого; он защищается: опять смыкает веки или смягчает резь слезами. Только работа может обуздать его скорбь, принудить ум отвлечься — не вспоминать, не сожалеть. На людях он держится, скрывает тоску, лишь с Никола дает себе волю и как-то раз признается: его душа — пустыня.
— Несмотря на успех, на громкую славу?
— Несмотря ни на что.
Жан ищет утешения в примерах. Твердит себе: Дидоне было еще хуже; ведь если ту, что ты любил, уносит смерть, все остальное остается при тебе; ну а когда тебя бросают, то вырывают с корнем все, и даже память о любовных клятвах чернеет от измены. Пусть это несколько ходульно, но ничего другого не придумать, как только сравнивать себя с Дидоной, вымышленной героиней, мериться с ней страданием, хвататься за нее, чтобы устоять в реальной жизни. Он снова зарылся в Четвертую песнь «Энеиды», как кутаются в старый плащ. Эх, знать бы раньше… Знал бы он тогда, ребенком, что волнение и страх, которые накатывали на него, стоило только открыть эту книгу, когда-нибудь будут его утешать, он бы не чувствовал себя таким уж виноватым перед школьными учителями; но что сказали бы учителя, увидев, как сильно он сокрушается из-за какой-то грешницы, из-за того, что он покинут, но совсем не Богом? Быть может, он уже догадывался. Быть может, очень рано ощутил свое родство с Дидоной и так близко к сердцу принял ее печаль, которой суждено стать в будущем бальзамом для его душевной раны. Весь день он примеривается, прикидывает, шарит в своем уме и сердце, ни на что не решаясь. Но все же… если подобрать свои слова для этой боли, возможно, у него получится противоядие, пригодное на каждый раз, когда нахлынет горе, — такое, как сейчас, или другое. Противоядие для всех людей, не только для него. И Жан задумал написать трагедию обманутой любви, пять актов только об одном: как душит боль, когда тебя бросают, — как душит боль… и ни о чем другом. Да так, чтоб превзойти Вергилия.
Читать дальше