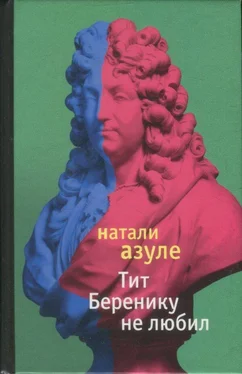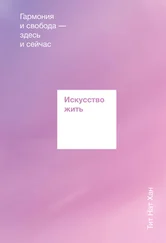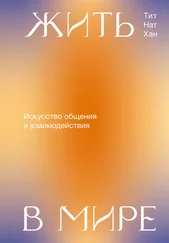«Любовь не утаишь, она огнем пылает, И все нас выдает, — молчанье, голос, взор…» [47] Жан Расин. Андромаха, II, 2.
«Никогда ничего не читала прекраснее», — отвечает она.
Вскоре они начинают появляться на людях вдвоем: в салонах, на улице, и Жана распирает гордость: он держит под руку женщину, к которой все вожделеют, вслед которой всегда раздается восторженный шепот, а она, наконец-то, принадлежит лишь ему.
На Пасху Дюпарк покинула труппу Мольера и перешла к бургундцам. Чтобы сыграть свою трагедию. Жан вне себя от радости. Теперь он понял, что в жизни есть два уровня: поверхностный и глубинный. Можно довольствоваться каким-нибудь тешащим самолюбие успехом. Оставаться на поверхности, — тут, разумеется, никто не застрахован от бед и неудач, но самого ужасного с тобой не случится. Точно сказать, что же такое это самое ужасное, Жану трудно, но им он начиняет свою пьесу, в ней оно предстает то каменною глыбой, то потоком, и никто, он уверен, никто до него так не делал. Порой Дюпарк заводит речь о том, что ей бы больше подошла другая роль, значительнее, интереснее — роль Гермионы, но Жан неумолим: она будет играть Андромаху.
— Но почему же? У нее почти нет слов.
— Для Гермионы требуется то, чего у тебя нет.
— Ты сомневаешься в моем таланте?
— Талант тут ни при чем. Просто то, чем она одержима, тебе, увы, пока недоступно.
— Ошибаешься.
— Так докажи мне.
Жан лукавит и сам это знает. У исполнительницы Гермионы нужного опыта ничуть не больше, но для него все средства хороши: разжечь Дюпарк отказом, заставить ее умолять. И вот она расточает все ласки, на какие способна, но, как только они отрываются друг от друга, переводит дух и снова привычно щебечет; Жан встает, оправляет платье и резко говорит:
— Сможешь хоть как-то оживить добродетель моей Андромахи — будет уже хорошо! Она виновница всего, детоубийца. И я хочу, чтобы в ее плаче публике мерещились кинжальные удары.
Дюпарк глядит растерянно, вряд ли, думает Жан, ей понятно, каким он может быть жестоким, да и не он один.
— Подумаешь, эта твоя Гермиона! Кому она нужна, гордячка неотесанная! — срывается она.
Как-то на репетиции они застряли на одном стихе — Дюпарк не удавалось произнести его так, как хотелось Жану.
— Что именно сюда заброшена судьбой… Что и в несчастии он счастлив был доселе… [48] Жан Расин. Андромаха, III, 6.
Слышишь? В несчастии он счастлив был доселе! Громче, с нажимом, чтобы всем было слышно, чтобы все ясно увидели: безупречная Андромаха и та совершает предательство, все неизбежно предают, — чтобы увидели, как она готова упасть в объятия врага.
— Эти твои александрийские стихи! Они смазывают все оттенки.
— На то они и стихи. А твое дело — проникнуть в самую их глубину и вытащить на поверхность смысл!
— Попробовал бы сам!
— Но это же вы великая актриса, мадам! Лучшая из всех, ведь правда? Так что давай — еще разок!
Она входит в образ, старается, но Жан снова морщится, хмурится.
— Может, стоит подумать о том, что будет в конце: когда Пирр умрет, она признается Гермионе, что была к нему неравнодушна. Она его любит, да, любит своего заклятого врага, поджигателя городов! И я хочу, чтоб этот поворот угадывался уже теперь, не надо мне чистейшей Андромахи, запачкай ее чуть-чуть.
— Не может быть…
— А я говорю, Андромаха не устояла перед Пирром, она его любит. Любовь всегда найдет лазейку и запятнает всякую чистоту.
— Ты-то откуда знаешь?
Глаза ее блеснули изумлением и страхом, видно, она вдруг задумалась, ради чего на самом деле происходят все эти репетиции. Минута — и она овладела собой, игра ее становится точнее, теперь она прощупывает каждый стих, выпуская наружу скрытые ноты. На коже выступает пот, жесты слишком размашисты, а этого Жан не выносит. Только она поднимет руку — он подбегает и хватает эту руку на лету. И снова втолковывает: в трагедии все держится на интонации и на дыхании, в ней действуют герои, а не простые люди, поэтому жесты, к которым мы привыкли в обычной жизни, здесь неуместны. В идеале телесная игра должна быть сдержанной, ясной, движение актера должно подчиняться ритму и обходиться без побочных жестов.
— А Гермиона у тебя вообще была бы припадочной! — бурчит он под конец.
Король пожелал завоевать Фландрию. Увеличил численность армии — с пятидесяти до восьмидесяти двух тысяч человек, и во главе ее поставил принца Конде. Сам воевать пока что не отправился, но очень скоро выступит в поход. Жану трудно представить себе этого молодого любителя танцев и знатока поэзии забрызганным кровью и грязью. Впрочем, думает он, у каждого свое поприще. Если мы станем продвигаться каждый на своем, то мои пьесы будут сыграны на сценах завоеванных им городов. Он будет повелителем людей, а я — властителем их дум. На месте Жана кто-то мог бы счесть подобное распределение неравноценным, но он, напротив, восхищен, такая параллель его лишь раззадоривает, он ничего не взвешивает, не вдается в детали, его пьянит сама мысль: король и он шагают в ногу.
Читать дальше