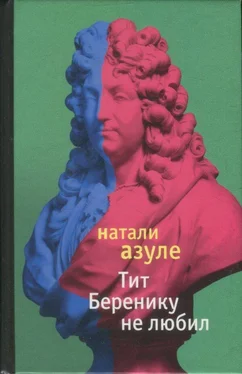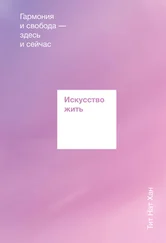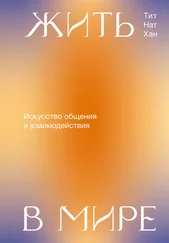— Я буду заставлять людей заливаться слезами, как он — заливаться кровью, — хвалится он перед Дюпарк.
И вдруг она с восторженной улыбкой тянется к нему, готовая отдаться, насмешки и сомнения — ни тени. Скромностью такого не добьешься, подумал Жан.
«Андромаха» у всех на устах, все в ней так ново: величавый тон, глубокие характеры и прежде всего — гениальная хитрость автора, который выдал за главных героев Андромаху и Пирра, тогда как по-настоящему зал трепетал, когда на сцену выходили Гермиона и Орест. Все хвалят жалобы Андромахи, восхищаются ее верностью, и все заметили совсем особенный язык этой трагедии. От Никола Жан узнаёт суждения не столь приятные: что Гермиона — никудышная влюбленная, а Орест сумасшедший. И оба — ничтожества.
— Как бы то ни было, но пьеса волнует людей, — огрызается Жан.
— О да, — кивает Никола, — а особенно женщин. И даже говорят, что в вас есть женское начало.
Ну вот и хорошо. Значит, отныне его третий ярус не пустует, Дидона больше не мается в одиночестве, теперь там поселился еще некто, похожий и не похожий на него самого. Жан видит, что его театр — настой из многих компонентов: там и книги, которые он прочитал, и люди, которых он знает, и его мечты, главное же — плоть, живая человеческая плоть, довольная или уязвленная, томимая желанием.
Но вслух он этого не скажет. Жан благодарен Никола за неустанную поддержку, однако не сознается, что его гложет и терзает, не скажет, как мучительно думать, что Дюпарк изменяет ему, что она не придет, что она лжет и лжет без конца. Нет, он сошлется на болезнь, мигрень, на дурноту — на что угодно. Только ее он хочет видеть, но она не идет. Ничто его не утешает: ни Овидий, ни Сенека, ни газеты, превозносящие его стихи. Зачем ему слава, если он несчастен! Хоть бы у этой девки, этой грязной шлюхи поотнимались руки-ноги, когда она с другим в постели, — неотвязно крутится у него в голове. От этих мыслей, как от жесткого белья, зудит вся кожа. Он перенес на сцену эти муки разъяренной души, которой так же нужно их излить в стихах, как расчесанному телу обнажиться. Любовь, уверен он, способна привести к безумию, полному расстройству разума, галлюцинациям и, как говорит Орест, к тому, что сотни змей будут шипеть на голове. Жан допускает эту крайность, она маячит, точно мыс в густом тумане, где-то вдали и очень близко, от припадков, душащих его по сто раз на дню, туда прямая дорога. Чтобы понять и оценить опасность, необязательно пройти весь путь, достаточно лишь бросить взгляд, почувствовать, что ты уже затронут хворью.
Каждый раз, видя, как сокрушается его Гермиона в конце четвертого акта, Жан задумывается, хватит ли у него смелости в следующей пьесе отказаться от маскировки и открыто сделать главным действующим лицом неистово, до воя и судорог любящую женщину, которая не жаждет быть отмщенной и для которой честь — всего лишь старая одежка, протертая до дыр корнелевскими героинями. Пожалуй, это будет даже очень кстати, соображает Жан, поскольку каждый вечер, уходя со сцены, его любовница бросает ему гордый и обиженный взгляд, а он никак не отвечает; она прекрасно знает, что лакомый кусок в этом спектакле — не Андромаха, а Гермиона, ждет, чтобы он дал ей эту роль, и понимает, что не дождется.
Через месяц после того, как пьесу показали при дворе, умер от сердечного приступа актер, игравший Ореста. Конечно, ему уже перевалило за шестьдесят, он был очень тучный и надрывался на сцене лет тридцать, не меньше, но такой дикой роли ни один автор ему никогда не навязывал. Поговаривают, будто буйства Ореста его и прикончили. Жан огорчен, но полон гордости. Он мчится к ней, к Дюпарк, и, не теряя времени на утешения да ласки, набрасывается на нее, как зверь, — вот-вот и правда может разорвать. Не слушая ни воплей, ни протестов, разворачивает ее спиной к себе, чтобы не видеть нежного лица. Обхватывает сзади; раз за разом входит в ее плоть все глубже, пронзает ее лоно так же, как она пронзает болью его сердце, и сладострастно вдыхает запах крови, упивается силой, какой владеет он один: взять и убить актера. Еще лучше — актрису.
Успеху пьесы несчастный случай пошел лишь на пользу. Она выдерживает тридцать с лишним представлений. И Никола повсюду раструбил, что «Андромаха» — пьеса года, текущего, 1668-го. Мольер, не устояв пред искушением, поставил у себя пародию с чрезмерно страстными героями, произносящими сумбурные, высокопарные стихи. Что ж, война по всем правилам, думает Жан. Гораздо больше его бесит новомодное словечко, которое газеты повторяют применительно к нему: «галиматья». Его корят за то, что в пьесе множество заумных выражений и от этого страдает точность и прозрачность французского языка. У Никола наготове примеры: расплывчато построенные придаточные предложения, ошибки в притяжательных местоимениях, небрежные глагольные формы. Жан трясет головой, упирается, защищает свою манеру, отстаивает внятность, хотя и знает, что в вопросах языка с Никола не поспоришь.
Читать дальше