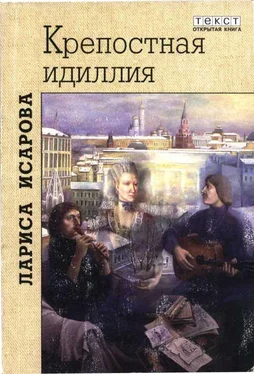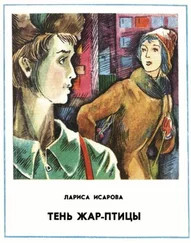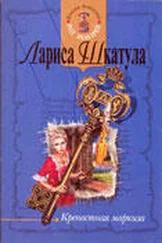Язвительные реплики кололи ее беспощадно и безжалостно.
Нет, графа она ни в чем упрекнуть не могла, хотя ей постоянно намекали, что она у него — не единственная. Параша запрещала себе ревновать — да и какие у нее были права? — пыталась учить новую оперу, но заноза не выходила из сердца. И она плакала по ночам, стараясь не всхлипывать, чтобы он не проснулся и не пожелал узнать причину ее слез.
Только на сцене она освобождалась от всего суетного. Граф, словно намеренно — она надеялась, что намеренно, — подбирал оперы, в которых возлюбленным мешали соединиться сословные предрассудки, но они все равно оказывались вместе наперекор обществу. И она пела с подлинной страстью, точно вновь и вновь выпрашивала у Бога свое право на счастье.
Однажды, когда она поправила либретто Вроблевского (он изъяснялся так коряво по-русски, что петь его текст не было никакой возможности), тот сказал, оскорбленный:
— Ничего, скоро кончится твоя Масленица… — Он любил русские пословицы, но всегда искажал и путал их смысл. — Вот уедет граф в Петербург, женит его матушка-царица, а тебя на скотный двор…
Вроблевский и сам не знал, зачем дразнит молодую женщину. Может быть, потому, что с ней у графа все вышло иначе, чем с другими? Или его злило, что Параша такую волю взяла над Шереметевым?
Но Вроблевский не подозревал, каким бешенством могут полыхнуть глаза Параши. Она вскочила, ударила его по лицу, вложив в пощечину всю свою силу, словно мстила за переживания, которые испытывала последние месяцы в Кускове, в Москве, в театре:
— Не забывайся! Раб!
Вроблевский чертыхнулся сквозь зубы и склонился в поклоне.
«И правда — раб! — подумала с брезгливостью. — Да разве можно такое терпеть! Исхлестал бы в ответ до крови наглую девку, плюнул бы в ее сторону… Ан боится…»
Вроблевский пятился, по щекам его пробегали судороги.
Только у порога прошипел:
— И тебя сломают, проклятая, будешь и ты лизать барскую руку!
Параша покачала головой. Она знала, что никогда, даже от любимого человека, не сможет перенести унижения.
А вскоре к ней зашла Анна Изумрудова в новой турецкой шали и, поворачиваясь павой, покачивая пышными плечами, сказала, что это подарок графа ко дню ангела.
— Наверное, скоро призовет к себе, соскучился, он завсегда с подарков начинает.
— Мне он ничего не дарит.
— Слыхали, на что надеешься, но не жди — не видать тебе волюшки. Как и всем нам. Такого подарочка милостивый барин в жисть не сделает, на том свете только ее и дождемся…
— Уходи… — чуть слышно сказала Параша и взяла в руки книгу, но Анна не унималась. Кураж распирал ее, самую капризную и властную из барских барынь.
— Ох и глупы мы, бабы! — Резковатый голос Анны Изумрудовой с годами стал ровнее, но металлический его оттенок резал слух Параши. — На что замахиваешься, на само ясное солнышко. Не зря гуторят в деревне, что ты уже наряд графини примеряешь, только как была ворона, так и останешься в павлиньих перьях…
И снова бешенство подняло Парашу, опалило огнем, заставило ударить по розовому, сытому лицу Анны. Правда, ужас отрезвления пришел мгновенно, как только коснулась она ее кожи. Не просто ужас, а стыд, горячий, мучительный. Она схватила руку Анны и стала целовать, приговаривая, как в бреду:
— Прости! Прости!
Господи! Бить такую же рабу подневольную, пользуясь покровительством графа, своей недолгой властью во дворце, мстить несчастной за шепотки, хохотки, сплетни, за всю свою боль.
— Да не бойся, не скажу. — Ленивый голос Анны не выражал возмущения или злобы, только удивление.
— Я не боюсь…
Параша подошла к своей любимой шкатулке, что поднес ей граф Николай Петрович. Достала перстень — подарок императрицы. Она берегла его, как ключ к свободе. Мечтала когда-нибудь выкупиться, умолить графа, но сейчас вдруг отчетливо поняла, что никогда он не отдаст ее никому, даже ей самой не отдаст. Она надела бриллиантовое кольцо на палец Анны.
Анна отвела палец, полюбовалась мерцанием камня.
— Знатный перстень, в иную деревню ценой будет…
Она чмокнула Парашу в щеку и торопливо ушла, чтобы глупая, не дай Бог, не передумала, не отобрала дареное…
А Параша еще долго терзалась своей несдержанностью, кусала губы, чтобы не закричать, не забиться в воплях, что стояли у нее в горле, исконные вопли русских плакальщиц, после которых так легко становится на душе…
А тут еще через несколько дней, зайдя к графу в кабинет-табакерку, где он привык принимать приказчиков и жалобщиков, прочла на секретере отрывок из его письма: «Наконец-то у меня есть все, чего я хотел, мой друг. А счастлив ли я? Мне кажется, что нет. В моей душе нет больше той пленительной бодрости, коя возбуждает желания и приносит столько утех, нарастая по мере того, как должна пасть последняя преграда дерзновенному. Да, теперь я понял — не следует верить иллюзиям. Радость не в наслаждении, а в погоне за ним…»
Читать дальше