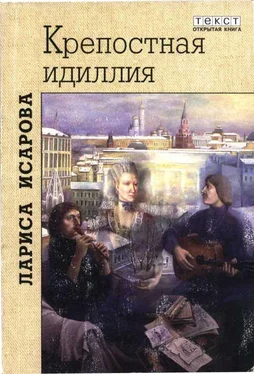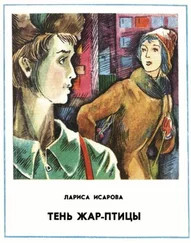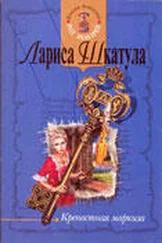Больше всего наслаждался граф на спектакле великосветских актеров не тем, что происходило на сцене, а Парашей. Она сидела с ним в ложе — той самой, где принимались важнейшие гости. Хоть она и отказалась надеть фамильные бриллианты Шереметевых (она ничего не желала носить из дорогих украшений, кроме его портрета в золотой рамке, усыпанной бриллиантами), хороша его подруга была несказанно. Столь переменчиво и подвижно было ее лицо, столь взволнован и оживлен взгляд, что в иные минуты она казалась ему самой Святой Цецилией, которую он видел на картине в Дрездене…
В первые минуты, внимая музыке, пению, она напряглась, но потом успокоилась, на лице заиграла улыбка. Актеры играли изящно, легко, но удивительно манерно, не столько заботясь о характерах героев, сколько любуясь своими жестами и голосами. Голоса звучали полно и чисто, но великосветская певица, исполнительница заглавной партии, кокетничала с залом, не стараясь предстать несчастной, как то полагалось по роли.
Завитки темных волос вольно падали на широкий лоб Параши, губы подрагивали, она повторяла слова, невольно морщась от неправильных интонаций. Она забыла о присутствии графа, но это его не огорчало — граф понимал, что она, его Жемчужина, далеко улетела в чистые дали; он, ее учитель и воспитатель, радостно следил с грешной земли за полетом вольной птицы…
Неизъяснимое чувство заставило увлажниться его глаза. Впервые он любил, а не принимал чужую любовь, впервые ощущал чудо соединения и растворения в чужой душе. И ему хотелось сохранить эту душу и сделать счастливой. Только о вольной для нее он не позволял помыслить, не мог решиться Николай Петрович отпустить ее без цепочки в бескрайнее небо. Не смел, не верил, что жар-птица вернется к нему на грешную землю…
После реконструкции театра в Кускове актеры получили удобные «кабинеты». У Прасковьи Ивановны появилась уборная из двух комнат, оклеенных французскими обоями. На них были изображены корзины с цветами. Она приходила сюда гримироваться задолго до спектакля. В минуты обдумывания роли, поисков грима, мимики, жестов ей мешал даже граф Николай Петрович. Он отвлекал вопросами, шутками, ласками. Мешал сосредоточиться, и тогда между ними пролегала неожиданная трещина. Когда он выходил, Параша освобожденно вздыхала, садилась на красную подушку дубового табурета возле зеркала в золоченой раме и начинала всматриваться в свое лицо, пока в зеркале не проглядывал лик инфанты Заморы или царицы Голкондской…
Граф выписал из Италии маэстро Барберини и тенора Олимпия и пригласил по просьбе Параши в труппу отменных учителей: Лапина и Шушерина, Плавильщикова и Сандунова, первых «сюжетов» Петровского театра, и даже саму несравненную Марию Синявскую. В жизни известная актриса была неприметной. Одевалась во все темное, говорила тихо, нос ее казался слишком длинным, а губы толстоватыми. Но ясность доброго лица, горькая улыбка казались Параше прекрасными.
Параша знала, что у Синявской неудачно сложилась жизнь, что на ее руках — парализованная мать, что она брошена мужем, принуждавшим ее принимать подарки знатных вельмож и утомленным ее добродетелью. Парашу удивляло, что при этом Синявская не озлобилась, не стала раздражительной. От нее точно исходили лучи сочувствия и доброты. Самым драгоценным в жизни Параши стали часы разговоров с ней — Синявская ее хорошо понимала.
Не меньше любила Параша и уроки Кордоны на арфе. Граф мог часами сидеть рядом с ней, слушая, как она занимается. Особо и граф и Параша ценили «Сонату» Кордоны, которая словно пересказывала ее жизнь. Наибольшей наградой Жемчуговой были слезы Кордоны, когда он услышал ее игру через несколько месяцев после начала занятий. Никто не знал его происхождения, цыган ли он был, испанец, но все понимали — человек горячий и обидчивый. Седина делала его восточное лицо скульптурно значимым, а черные густые брови почти скрывали глаза. Поначалу Кордона думал, что его ученица — обычный каприз графа. Но потом услышал ее пение и… «Я отдыхаю душой, когда она поет», — как-то сказал он графу.
Параша по-новому играла воспитанницу Нанину в вольтеровской комедии. Если раньше она показывала грациозную, простодушную девушку, страдающую от капризов благодетельницы-баронессы, то теперь она играла человека, у которого все можно отнять, все — кроме самоуважения. «Жестокое мучение иметь высокий дух и низкое рождение», — произносила она полушепотом, с такой горечью и болью, что потрясенные зрители замирали на несколько мгновений, прежде чем начать аплодировать.
Читать дальше