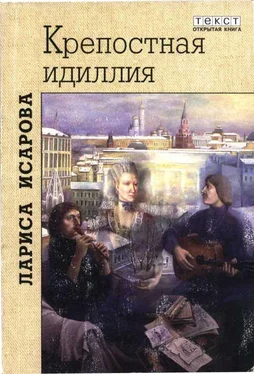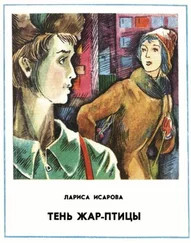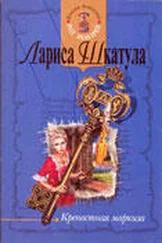Пока граф Николай разглядывал приживалку, та извлекла откуда-то — из рукава, что ли? — бронзовую табакерку, такую же старую, как и ее хозяйка. На крышке красовался амур с отбитыми временем крыльями. Граф Николай сунул приживалке несколько золотых, пообещал «снизойти к ее нуждам» и сказал с приятностью на прощание:
— Помогать, избавляя от унижения, — дело достойное…
Параша, услышав это, с таким восторгом посмотрела на графа, что он приосанился, точно на портрете, и подумал, что высшее наслаждение — видеть преклонение в этих удивительных ясных и умных глазах.
Понемногу он стал принуждать Парашу быть хозяйкой в доме, самой принимать гостей. От такой роли ей становилось страшно, как в раннем детстве, когда она пошла ночью на кладбище, чтобы доказать деревенским мальчишкам, что ничего не боится — ни барина, ни мертвяков. Но постепенно притерпелась. Убедила себя, что прием гостей — очередной спектакль. И надлежит себя так вести, чтобы граф гордился своей метрессой. А молва была уже не страшна. Она столько перенесла ради него, что стала неуязвимой для любых стрел.
Правда, каждый большой прием вызывал у нее такой ужас, такое напряжение, что руки-ноги леденели, но этого никто не замечал. Она выплывала величественной барыней, светская дама с жантильной улыбкой на свежих губах. Простота ее строгого без украшений наряда удивляла. При ней не позволяли себе скабрезных шуток и гусарских выходок самые отчаянные ловеласы. Она не жеманилась, не потупляла глаза, прикрываясь веером. Лишь смотрела с любопытством, открыто, чуть приподняв тонкие подвижные брови.
Постепенно она начала позволять себе реплики, остроумные, многозначительные, на французском и итальянском. Высказывала свое мнение о новинках в искусстве, о спектаклях немецких и русских театров. Параша читала все, чем исправно снабжал Николая Петровича из Парижа Ивар, и однажды вызвала восхищение митрополита Платона, процитировав по-французски:
Кто мыслит, тот велик, он сохранил свободу.
Раб мыслить не привык, он пляшет вам в угоду.
Всеобщее изумление мужчин было ответом на неожиданную фразу, речь как раз шла о глупости и тупости крепостных. Галантный митрополит Платон вскочил и поцеловал ей руку, коснувшись запястья пушистой надушенной бородкой. Глаза его, темные, умные, ласковые, обдали ее волной доброты и сочувствия. И она совсем смутилась, когда он преподнес ей розу, достав ее точно фокусник из-под рясы. Она приколола ее к волосам; граф Шереметев был предоволен.
После разговоров наступал час музыки. Многие гости ездили к Шереметеву ради этих минут. Камерное пение Параши сыскало ей еще больше поклонников, чем выступления на сцене. Особенно после того, как с ней позанимался маэстро Барберини. Звуки стали шире, красочнее, появилось редчайшее вокальное эхо, казалось, что поет трио, а не один человек. В московских гостиных о Жемчуговой рассказывали чудеса.
— Колоссально, брависсимо! — темпераментно восклицал стареющий, но подвижный Барберини. У него еще не было таких учениц, Параша понимала его с полуслова.
Параша помнила высказывание графа: «Люди большого ума все замечают и ни на что не обижаются». И она старалась сдерживать свои обиды, но удавалось это не всегда. Трудно быть крепостной птицей на золотой цепочке…
Параша играла для гостей на клавесине, на арфе, пела, обученная Барберини, неаполитанские вилонеллы — народные песенки, похожие на частушки, стремительные и ритмичные. Даже иногда танцевала с бубном. Аплодисменты, крики «фора», а потом — издевательские, пренебрежительные взгляды.
Постепенно гостевые приемы превратились для Параши в пытку. Ей казалось, все только и думают о том, что она — лишь игрушка, исполняющая прихоти барина. Раба, всего лишь раба, которую в единый миг можно низвергнуть в скотницы…
К ней никто не относился всерьез, хотя бы как к Сандуновой, посмевшей отвергнуть притязания могущественного Безбородко и даже высмеять его. Ее голос, ее талант ей не принадлежали. Пела Параша лишь по просьбе графа, и показывал он свою Жемчужину далеко не всем. И когда прошло первое опьянение от сбывшейся мечты девушки-затворницы, в ее чувстве к барину появилась незаметная, тоньше волоска, трещина. Все его подарки мало значили для нее по сравнению со свободой, а как раз свободу он и не мыслил ей предоставить.
И в театре, и при поездках с графом в Москву она страдала от шепотков, впивавшихся в нее со всех сторон. «Крез-младший» никак не остепенится… не женится… карты бросил, а на новый театр мильоны выбрасывает… фамилия громкая, а наследника не предвидится… и была бы девка красивой!..
Читать дальше