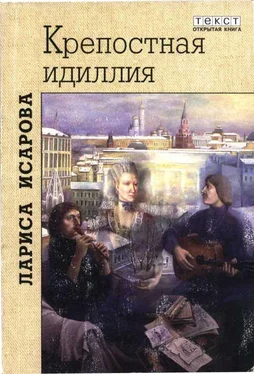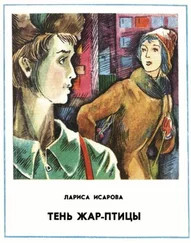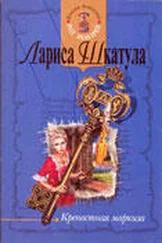Потом она переоделась в парижское синевато-лиловое платье, узкое на греческий манер, с драгоценным поясом под грудью, и села за арфу. А потом спела арию из «Безумной Нины» — в эти минуты не было в зале ни одного мужчины, который бы не захотел поменяться судьбой с графом Шереметевым. Ни у кого не имелось такого ручного соловья…
Даже красавчик Платон Зубов, вырвавшийся из властных и цепких рук императрицы на один вечер, даже он изнемогал от приятного волнения. И не удержался, намекнул графу, что не против поближе познакомиться с чудной актеркой.
— Влюбился от макушки до пят, — сказал он, как будто шутя, — и благо, что стреножен путами моей повелительницы, а не то наделал бы глупостей.
Николай Петрович в ответ обдал его таким холодным взглядом, что фаворит императрицы счел за лучшее не продолжать. Привык свои страсти в узде держать, чтобы не донесли доброхоты матушке-царице.
Впрочем, мыслей своих насчет Параши Зубов не оставил. И долго потом прикидывал, как бы в будущем, когда забавляться с актеркой Шереметеву надоест, откупить ее себе.
Шереметев торопил с окончанием постройки театра в Останкине. Он начал опасаться за свое счастье, видя, каким успехом пользуется его сокровище. Граф помнил, как Парашу чуть не выпросил светлейший князь Потемкин, а Зубов ныне был в еще большей силе. Правда, ревновала его императрица отчаянно, но фаворит ничего не боялся, видя свою власть над стареющей государыней, и мог ради забавы выкрасть дивного соловья.
Больше всего хотелось графу Шереметеву уединиться с Парашей в новом останкинском дворце, где нет косых взглядов и усмешек многочисленных приживалов «злобного Кускова». Другие бы уже давно повыгоняли, повыметали всю нечисть, которая сидела там пожизненно, питаясь его щедротами и плетя интриги против Параши, а значит, и против него самого, своего благодетеля и кормильца, но граф, твердый в иных делах, проявлял тут небывалую мягкость.
Параше в Останкине предназначались покои рядом с графскими. Огромное венецианское зеркало смотрело в окно, в заросли сирени, ее любимых цветов; мебели она отобрала мало, чтобы легче дышалось. Да и картин поубавилось. Она просила повесить лишь три портрета: императрицы Екатерины Великой, самого графа Николая Петровича и свой — в роли Элианы. Она радостно оглядывала свои комнаты, где все делалось ей на счастье, забывая при этом свое непрочное положение и безнадежность будущего. Ей хотелось верить, что приплыла она наконец к тихой заводи, где ничто не будет больше терзать ее душу.
Покой и счастье, однако, несовместимы с суетной жизнью.
После смерти государыни на графа Николая обрушились милости нового императора. Павел назначил Шереметева обер-гофмаршалом двора, объявив об этом у одра усопшей матери. На службу не напрашиваются, от службы не отказываются — Николай Петрович решил положить все силы на служение престолу. Он втайне страдал, что ничем не прославил свою фамилию. Дед был знаменитым фельдмаршалом, отец — предводителем дворян Москвы, а о нем говорили исключительно: «внук и сын Шереметевых». Только и прославился он что театральными постановками.
Поток милостей Павла Петровича продолжался несколько месяцев. Граф Шереметев помолодел, ходил высокомерно выпрямившись — наконец-то его оценили! Отставка всех Зубовых, недавних разорителей России, усиливала его восхищение императором. Он одобрял все указы и решения своего старинного друга, хотя случались и преглупейшие: смеху подобно было веление, чтобы все в России в один час садились обедать и ужинать, ложились спать, чтобы свет в окнах не брезжил после восьми часов вечера, чтобы все остригли длинные волосы, не носили круглых шляп, забыли многие слова.
Параша наблюдала за Николаем Петровичем и думала, что, наверное, всем мужчинам нужно проявлять себя в жизни, что Шереметев скучал в своих имениях, а теперь впервые почувствовал значимость должности при дворе. Сейчас даже при решении ничтожных дел граф ощущал свою необходимость: какой сервиз использовать, сколько денег отводить на приобретение припасов и вина, какую мебель заказать императору или императрице. Он этим увлекался, как мальчишка, проводя все дневное время возле повелителя, подробно сообщая ей ночью, что сказал, как пошутил Павел Петрович.
Параша помалкивала. Она побаивалась нового императора и вздрагивала, лишь только представив его вдавленный нос, дергающееся лицо, круглые, безумные в минуты гнева, глаза. Почему-то — сама не отдавая себе отчета, в чем причина такого предчувствия, — Параша ежесекундно ждала опалы для графа Шереметева. Она слышала, как все упражняются в «тихом роптании». Оно усиливалось, становилось громче, сильнее, тревожнее, в воздухе копилось напряжение.
Читать дальше