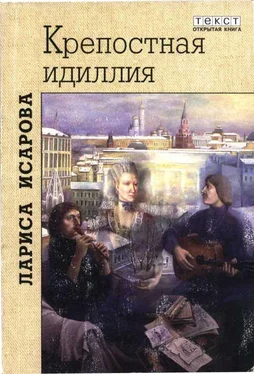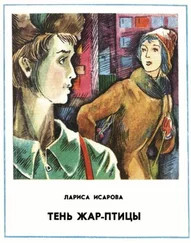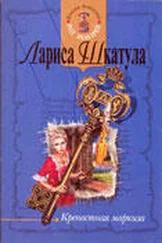Только поздним вечером, совсем к ночи, появился Прошка.
— Иди, ждут… — Он поглядывал на нее почтительно и с опаской, не решаясь сказать, как обрадовался граф, прочтя записку. И лакей понял, что не прогадал, хотя больше часа колебался, не зная, как поступить с запиской, — боялся, что граф разгневается… — Его сиятельство в музыкальной зале.
Она не видела графа Николая Петровича несколько месяцев и сейчас, войдя в залу, задрожала, как от страшного холода. Он сидел возле камина при одной свече в парадном костюме, с кольцами на пальцах, сгорбленный, постаревший и обрюзгший, точно прожил это время впятеро быстрее, чем она. Параша ступала тихо, как на сцене, и он не услышал ее приближения.
При виде Параши он странно дернул губами, щекой. Его светлые подпухшие глаза казались усталыми, больными, они не оживились, не засверкали молодым блеском. Только и сказал:
— Спой мне, Параша!
Добрым, давнишним голосом сказал. Будто снова вернулись времена их репетиций, когда он показывал ей, как надо выходить на сцену, как кланяться, как держать руки. А она вдруг вспомнила, как увидела его впервые, молодым, веселым, отвыкшим за границей от барских затей, простым и добрым. И Параша запела песню, сочиненную недавно ею самою:
Вечор поздно из лесочка
Я коров домой гнала.
Лишь спустилась к ручеечку
Близ зеленого лужка —
Вижу барин едет с поля…
Он и не знал, что она стихи сочиняет, музыку. Он чуть не потерял ее в суете светских буден, за мишурой раутов и балов. Он мог бы не услышать больше ее бархатный низкий голос, если бы князь Дашков целил вернее…
Лишь со мною поравнялся,
Бросил взор свой на меня.
— Чья такая ты, красотка?
Из которого села?
— Вашей милости крестьянка, —
Отвечала ему я. —
Коль слыхали о Параше,
Так Параша — это я!
Граф боялся пошевелиться. Боже милостивый, и как он мог этого лишиться? Да разве он не угоден Богу, если в его руки сама впорхнула эта жар-птица, бесподобная, неповторимая, которой не стыдиться, а гордиться нужно, как самой большой удачей.
Никогда она так не пела и уже никогда не споет, это Параша понимала. Она хотела приблизиться к нему, сократить расстояние, Богом установленное между барином и крепостной. Пела, точно обнимала его, сдавалась на милость, клялась отказаться от гордости. Хотя понимала, что с этой минуты каждый волен смеяться над ней, назвать блудницей…
Шереметев только первые минуты смотрел на нее. Кающаяся Магдалина с картины Тициана. Такое же волнение, и даже поза такая же. Одна рука прижата к груди, другая повисла вдоль тела беспомощно и доверчиво… Она и волос не прибрала, идя к нему, они рассыпались по плечам причудливыми прядями. Пела дева, точно молилась кому-то, кто мог совершить невозможное.
Потом он закрыл глаза. Лицо его разглаживалось, молодело, с каждой секундой он сбрасывал с плеч, как плащ, груз шестнадцати лет, на которые был старше нее, лет, прожитых безудержно, беззаботно, с единственным желанием — не скучать. Что-то подсказывало ему, что скука никогда больше не посетит его апартаменты, если с ним рядом, при нем будет эта девушка…
А она запела любимую песню графа, написанную Сумароковым:
Летите, мои вздохи, вы к той, кого люблю,
И горесть опишите, скажите, как терплю.
Останьтесь в ее сердце, смягчите гордый взгляд.
И после прилетите опять ко мне назад.
Он часто напевал эти строки, играя на виолончели, но никогда в этой зале не звучали они с такой теплотой.
Параша закончила песню и долго стояла, уронив руки, точно ждала приговора.
Граф не сразу освободился от власти ее голоса, потом встал и двинулся к двери, сказав небрежно, точно собаке:
— Пошли…
И она пошла за ним, словно поплыла по каким-то таинственным волнам, не ощущая себя, не понимая, на каком свете находится…
С этой минуты граф Шереметев никогда не расставался с Прасковьей Ивановной Жемчуговой. До самой ее смерти.
По Москве, свиваясь шипящими змейками, поползли слухи. В гостиных, в салонах, на раутах и балах злорадно шептались. Шереметев-то граф с актеркой… Была бы хоть француженкой! Видел бы старый граф… С крепостной своей девкой, в открытую, забыв об обществе… Анахоретом стал… вслух ей читает… Идиллия на французский манер… Руссо в Кускове…
Шереметевский управитель Александров писал брату в Петербург, управителю Фонтанного дома: «Здесь слухи носятся, будто граф Алексей Кириллович об его сиятельстве разносит по городу дурные разговоры, против чего и изволил приказать, чтоб вы постарались узнать от кого-нибудь, какие он делает плевелы и кому…»
Читать дальше