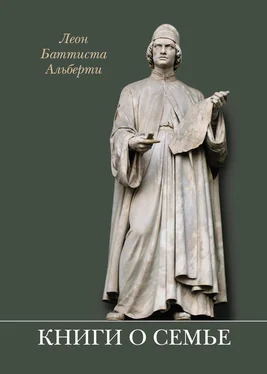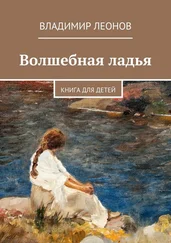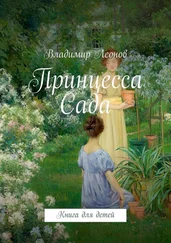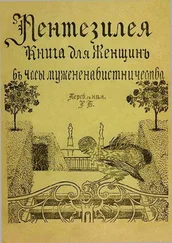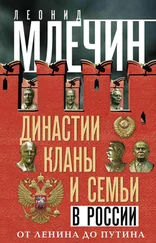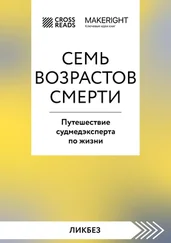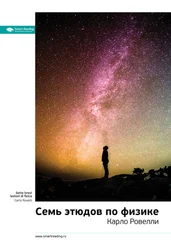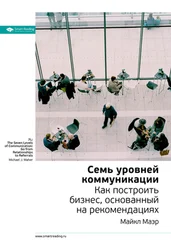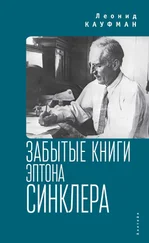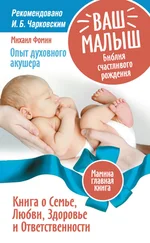Одновременно утопическое и онирическое пространство диалога Theogenius, в некоторых из Intercenales (Застольных бесед), например, Defunctus (Покойник), открыто представленное в качестве потустороннего, составляет единственную, но невероятную альтернативу реальному пространству семейного жилища и узнаваемой городской топографии. Именно последнее Альберти пытается обрисовать около 1433 г. в Риме в первой редакции книг I и II De familia, и это же домашнее пространство воспроизводят его поздние диалоги, Cena familiaris и De iciarchia. Конечно, такое совпадение не может быть случайным.
Нет сомнения, что речь идет о чём-то большем, чем о долге, отдаваемом автором великим традициям своей семьи. Ни в коем случае, однако, основываясь на том положении побочного сына и сироты, в котором пребывал Альберти, невозможно убедительно объяснить богатство и оригинальность таких произведений, как «Книги о семье» или ту важность, которую великий гуманист придавал этой теме и ту настойчивость, с которой он возвращался к ней в своих сочинениях [238] Аналогичным образом Томас Кюн свидетельствует о сознаваемой им ограниченности того подхода, которым он пользуется в статье Reading between the Patrilines: L.B. Alberti’s «Deila famiglia» in Light of his Illegitimacy, «I Tatti Studies», I, 1985, p. 161–187: 163.
. Последние свидетельствуют также о непреходящей и иногда проникнутой полемическим задором потребности сделать из «повседневного» измерения нашего бытия и из наших обычных и конкретных проблем, даже самых духовных и внутренне связанных с непременным поиском счастья, наше единственное измерение и наши единственные подлинные проблемы. С этой точки зрения книги «О семье» являются прежде всего сознательной попыткой прочтения человеческой реальности, отталкивающейся от семьи, которая по ассоциации является ее естественным и потому необходимым основанием. Самым естественным местом для этого прочтения или размышления является домашнее, замкнутое, защищенное и интимное пространство семейного жилища; его вид, его настроение, сама его природа располагают к диалогу, к беседам между отцом и сыновьями, между домашними или родственниками, которые одновременно суть и должны быть друзьями: в общем, это герои настоящих «домашних и семейных бесед».
Отметим здесь, тем не менее, две основные черты, присущие всем итальянским диалогам Альберти, за исключением «Деифиры» и «Теодженио»: речь идет, во-первых, о выраженной и явной миметической тенденции, и во-вторых, о постоянном присутствии автора или его alter ego в числе собеседников или персонажей. Следует заметить, что сочетание этих двух черт наблюдается исключительно в пяти сочинениях, которые нас больше всего интересуют; в основном, именно их использование и различные его варианты и следствия, как формальные, так и существенные, делают эти сочинения единой группой, связанной и отличающейся от всех прочих многочисленных сочинений гуманиста.
В книгах «О семье», самом содержательном, разнообразном и сложном из диалогов Альберти, беседа идет на протяжении двух дней и растягивается на четыре книги, каждая из которых включает в той или иной форме внутренние паузы, важные для их структуры. Они позволяют сменять и по-разному группировать персонажей, а также перенаправлять дискуссию в новое русло. Беседа протекает в Падуе весной 1421 г., в доме, где тогда жил отец автора, Лоренцо. Его смертельная болезнь послужила поводом для встречи героев, число которых довольно значительно: если не считать вставных речей Бенедетто Альберти, деда Леона Баттисты, в первой книге, и жены Джанноццо в III-й, в диалогах участвуют девять собеседников – шестеро из них присутствуют в первой части книги IV. Мы не станем останавливаться на проблемах технического порядка, на распределении и перераспределении ролей, необходимость которого вытекает из их количества [239] Заметим, тем не менее, что как в греческом, так и в римском диалоге не встречается больше трех собеседников, одновременно присутствующих на сцене. Ср. Andrieu, Le dialogue antique: Structure et presentation, Paris, Les Belles Lettres, 1954, p. 278 ss. et 347 s.
. Заметим, однако, что присущая гуманистическому диалогу и диалогу Альберти однородность круга персонажей, унаследованная от римского диалога и особенно от Цицерона, в De familia и позднее в Села familiaris доведены до предела: все участники принадлежат к семье Альберти, к одной консортерии, чье славное прошлое и коллективный опыт избраны в качестве образца. Даже появление Буто, который дважды берет слово в первой части книги De amicitia , навряд ли можно считать нарушением этого правила: ведь «старинный слуга семьи […] Альберти» [240] De familia, IV 2–3.
Буто выполняет определенную функцию, которая, вопреки смыслу его высказываний, впрочем, вполне предсказуемых, является не только игровой: его присутствие дополняет семейный круг в тогдашнем понимании этого слова, когда из него были исключены только женщины [241] Но конечно, не из семейного мира, в частности, во второй книге, где речь идет о выборе невесты, но активное и прямое участие в таких диалогах было тогда немыслимо. Ср. Francesco Furlan, Verba non manent: La donna nella cultura toscana fra Trecento e Quattrocento, dans Intersezioni, XVI, 1996, p. 259–274.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу