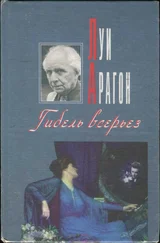— Если бы вы сейчас не схватили меня за руку, — начал Лертилуа…
— Неужели вы думаете, что я бы мог равнодушно присутствовать при гибели нашего акционера?
Непринужденно шутливый тон Декера задел Орельена. Вечно один и тот же припев — акционеры, акционеры. Куда ни пойдешь, только это слово и слышишь — даже странно. Он решил объясниться начистоту:
— Послушайте, доктор…
Но доктор прервал его:
— Знаю, знаю… Я сегодня видел мосье Мореля… Очаровательный человек… Должно быть, ему трудно приходится — попробуй готовить лекарства без руки… И умный. Особенно для аптекаря. Нам он будет весьма полезен. Трогательная личность: ничего для себя, лично ему ничего не надо. Все затевается ради мадам Морель. Он для нее на все пойдет… Прямо приятно смотреть. В наше время такие чувства — просто редкость. Мы уже забыли, что значит счастливая супружеская пара. Муж — и вдруг заботится о жене. Только в провинции встречаются еще такие чудеса…
Все это было сказано обычным бесцветно-горестным тоном. О чем бы ни говорил доктор, — за любым его словом чувствовалось незримое присутствие Розы, тень Розы и вся их жизнь с ее комедией или драмой; иногда Орельен спрашивал себя… Но сейчас его терзали иные заботы.
— А вы видели мадам Морель?
— Нет. Ее не было дома. Делает последние покупки. Они уезжают из Парижа завтра вечером. А какая женщина устоит перед соблазном побегать по магазинам, прежде чем похоронить себя в провинции…
— Завтра вечером?
— Да… сразу же после встречи Нового года в семейном кругу.
Орельен лишь тешил себя надеждой, что Эдмон явится на банкет, пусть хоть к самому концу, пусть к кофе, к ликерам… Узнать… у Эдмона он мог бы все спросить прямо. Вдруг ему пришла в голову безумная мысль. Возникла она, по правде сказать, как только Декер предложил зайти к Люлли. Не в заговоре ли доктор с Эдмоном, а может быть и с самой Береникой? Ведь так естественно, что Орельен проводит новогоднюю ночь именно здесь. А где ему прикажете ее проводить? Они придут. Придут ровно в полночь. Придут. Совсем, совсем внезапно она появится в этом просторном зале, где он держал ее руку в своей. Она ведь хитрая: предложит мужу пойти туда, где провела такой приятный вечер… Шутка ли сказать, Монмартр. Имеет ли представление этот аптекарь, Люсьен, о Монмартре? Придут они с Эдмоном или без Эдмона? Ясно, что Эдмон встречает Новый год с Розой! Доктор заговорил о Розе, о необычайной деликатности Розиной души… о тех правах, что даются в жизни избранным натурам… к ним нельзя подходить с обычной меркой, как ко всем прочим, они живут по своим нормам. Слово «нормы» особенно полюбилось доктору.
— Вы не возражаете, если мы заглянем на минуточку в дансинг?
— Конечно нет, совсем напротив.
Воздух здесь такой, что кажется, его можно резать ножом. Толпа снующих взад и вперед людей, хлопанье входной двери, суета посыльных, цветочниц и главный зал, залитый светом в честь вальса, световые блики, скользящие по нежной женской коже, по блесткам платьев, черные силуэты мужчин, белоснежные пластроны, скатерти, меняющие цвет… Весь зал меняет цвет в зависимости от вращающегося там, наверху, диска. Сейчас все лиловое. На четырехугольнике паркета между столиками и бутылками шампанского топчутся, скользят томные, манерные пары… Магометанский рай, только без фонтанов, и с таким количеством гурий, что даже чуть-чуть противно. Похоже на торт с кремом. Орельен глядит на ручные часы. Безумное вращение диска, вращение света кладет с размаху цветные полосы поперек зала, балконов, танцующих пар, и этой цветовой радуге вторит оркестр, в бешеном темпе доигрывающий последние такты. Во внезапно наступившей тишине слышен стук тарелок, и смех, и взрывы аплодисментов, которыми танцоры награждают музыкантов… Оркестр покорно повторяет вальс, и снова все синее, синее, синее…
Взглядом Орельен старается проникнуть сквозь ослепляющий свет, сквозь мрак. Его приковывает на мгновение изгиб руки, показавшийся знакомым, линия приподнятого плеча, за которым не удается разглядеть лицо женщины, и, чтобы не уступить наблюдательного пункта, ему то и дело приходится сторониться, давая дорогу непрерывно снующим гарсонам. Рядом, у разноцветной колонны, стоит мужчина с расплющенным носом, и лицо его выражает те самые чувства, которые пытается скрыть музыка. Та же игра света на скатерти в углу, откуда доносится игривый женский смех, словно звякают серебряные монетки. Нет… Никого. И снова взгляд падает на ручные часы. Стрелка приближается к полуночи. Они придут, ну, конечно, придут. Похожий на чудовищно огромную черную муху с раздвинутыми надкрыльями, жирный Люлли рассекает толпу, тут же смыкающуюся за его спиной в ритмическом колебании танца, он кричит что-то оркестру, а что — не слышно. В зал входит группа мужчин во фраках и женщин в светлых длинных до полу платьях; все женщины спокойные, величественные, безукоризненно вымытые. К ним со всех ног бросаются гарсоны. Посетителей оттесняют в угол, чтобы приготовить прибывшим столик. Музыканты, стоя, начинают «Star Spangled Banner» [3] «Звездно-полосатое знамя» (англ.) — так называется национальный гимн США. (Прим. ред.) .
. Проходя по залу, новоприбывшие господа раскланиваются с танцорами, которые от изумления замерли на месте. «Из американского посольства», — шепчет рыжая девица, неестественно бледная в неживом свете прожектора, стоящая рядом с доктором и Лертилуа. Стрелки движутся к двенадцати. Из кухонь несут дымящиеся блюда. Снова начинается танец, вальс в разноцветных лучах. Стрелки… Орельен не сводит с них глаз. Кровь стучит у него в висках. Она придет. Разве она может не прийти? Он не желает даже думать об этом… Что сказал Декер? Черт его знает, что он там такое твердит! Глаза невольно щурятся, свет полосами пересекает все помещение, раздаются аплодисменты: это главный трюк Люлли — в подражание паноптикуму, с потолка падает световой снег, кажется, что белые хлопья стекают на пол, образуют призрачный шатер из лепестков, тающих на полу, — тут вся поэзия улицы Пигаль в тот час, когда уже без двух двенадцать. За столиками рукоплещут, и снова звучит вальс «Ирвинг Берлин». Толстая дама с розовым воротником, та, что стояла в баре, пришла в дансинг посмотреть и остановилась рядом с ними.
Читать дальше