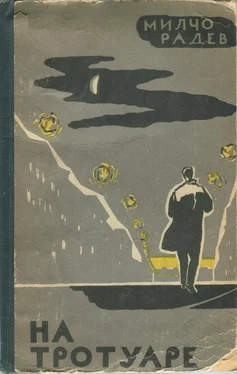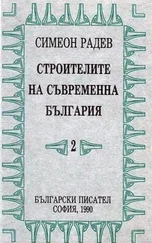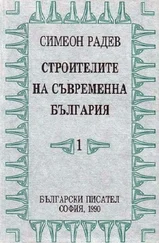Надо поставить его на место. Проучить раз и навсегда. Но он тут же вспомнил: дней десять назад, в воскресенье, к повару приехала жена с двумя детьми. Как тот разоделся! Белая чистая рубашка, галстук. Ничего не скажешь — отец семейства. «Доктор… разреши тебе представить… моя жена… дети… этот вот — школьник… отличник». Поздоровались за руку. Немного поговорили. Повар весь сиял. А потом он со своим семейством отправился дальше. Знакомить жену и детей с остальными.
И вот теперь… Не может же он при всех! Лучше отозвать повара в сторонку.
— Я хочу тебе кое-что сказать.
— Говори, доктор.
— Давай выйдем.
Вышли.
— Видишь ли… — Будь они на кухне, он мог бы и приказать. Строго и безапелляционно. Но здесь, когда стоишь рядом и держишь человека за локоть, не станешь ведь приказывать. — Видишь ли… я тебе как человеку говорю… Пойми меня правильно. В кухне грязно… Очень грязно… Конечно, сразу трудно привести ее в божеский вид… Зато потом будет легче…
— Ладно, ладно, доктор. — И повар хотел было уйти.
— Нет, ты обещай… Сделай это для меня.
— Постараюсь. Я им скажу… Только бы не забыть.
Он просил об одолжении. И ему не отказали: немного почистили. Потом он попросил еще раз. Опять не отказали. Но не может же так продолжаться до бесконечности.
Нужно придумать что-то другое. А то опять придется давать объяснения Колеву и Лазову.
И вот выход найден. Когда он однажды объяснял, что в кухне не должно быть так грязно, одна из женщин, полная, улыбчивая, взглянула на него и сказала:
— Не горюй, доктор. Вымоем.
Это было не впервые, нечто подобное слышал он и раньше.
— Что вы, не видите, как человек расстраивается? Давайте приберемся.
Значит, нужно делать вид, что ты огорчаешься, расстраиваешься. А что может быть легче? И он делал это с превеликим удовольствием.
— Вы даже не представляете, сколько в этом пятнышке микробов, — приговаривал он.
А потом, наклонившись, искал пятна, как близорукие ищут оброненную монету.
— Это все равно что сидеть на бочке с порохом…
Но дней через десять разговоры о порохе потеряли свою остроту. Нужно было искать другой способ. И он нашел, сказав как-то:
— Вот придут и спросят: откуда эпидемия, почему здесь так грязно? Куда смотрит врач? Почему не штрафовал, если его по-хорошему не слушали? А я… вы же знаете, насчет штрафов… мне никогда и в голову не приходило. Но отвечать придется мне. Уволят… а может быть, и похуже.
И все становилось проще. Так лодку на середине реки подхватывает течение.
— Придется мне пострадать… Все шишки на мою голову посыплются…
И в который раз он чувствовал, что больше всего способен вызывать жалость, сочувствие. Тут он был в своей стихии. Другие способны вызывать любовь, симпатию, а он — жалость… Его жалеют. Того и гляди погладят по голове и скажут: «Не плачь, не надо, вот мы им покажем».
Чисто в кухне или нет, теперь это уже не имело значения. Евгений поворачивался и медленно направлялся вверх, к своему домику. На самый край поляны, в комнату, где горит лампа и доносится из приемника тихая музыка. Притворял за собой дверь. Даже к окну не подходил, а забивался в самый дальний угол.
Иногда в темноте приходили воспоминания, материнской рукой касались его плеча. Тот случай… со скорой помощью… Янев… Маринов стоит в дверях и спрашивает, вызывать ли машину, а он отвечает: «Больной останется здесь. Я тут решаю. Ты слышишь — я!»
Как это было здорово. И совсем другое дело — когда тебя жалеют. В тот раз он выпрямился. Твердый. Сильный. Сказал: «Я решаю! Я! Всю ответственность беру на себя».
И сейчас у него было только одно желание: еще раз испытать это чудесное, ни с чем не сравнимое чувство, когда в тебя вливается живительная сила и ты выпрямляешься и делаешься неколебимым как скала.
Если бы он мог быть таким с Мариновым, с поваром, с Магдой. Со всеми. Особенно с софийскими знакомыми. Вот он перед ними, перед Магдой — встает, распрямляется, смотрит на нее. Только смотрит, но знает, что она в его руках, что он может согнуть ее, подчинить себе. Вот и Маринова зажать бы в кулак. Евгений представляет, как тот изворачивается, будто ящерица. Хочет ускользнуть, но Евгений только посмеивается и не выпускает его. Он ждет, когда Маринов попросит пощады. Тогда он распорядится навести чистоту на складах, в шахтерских домах — словом, везде, пока вся Брезовица не заблестит.
Однажды его мечта чуть было не осуществилась. Он поймал Маринова и мог бы зажать его в кулак, как ящерицу. Но выпустил. Нарочно выпустил. И не только потому, что кража, в которой Евгений уличил его, была совсем незначительной — всего шестнадцать левов — и не имела бы для Маринова серьезных последствий, но и потому, что не хотел воспользоваться моментом.
Читать дальше