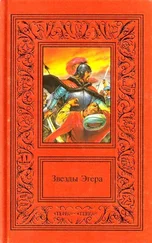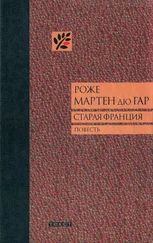Это оказалась сестра Селина, а с ней только что прибывший доктор.
- Продолжайте, продолжайте, господин аббат, - сказал Теривье, заметив священника.
Взглянув на сестру Селину, аббат отстранился и пробормотал:
- Входите, доктор. Я уже кончил.
Теривье приблизился к больному. Он решил, как и всегда, взять в разговоре с ним доверительный тон, напустить на себя сердечный вид:
- Ну как? Что у нас сегодня вечером не ладится? Небольшой жарок? Ничего, ничего, это действие новой сыворотки. - Он потер руки, поворошил бороду и сказал, беря сиделку в свидетели правоты своих слов. - Скоро вернется Антуан. Ни о чем не беспокойтесь. Сейчас мы вам снимем боли... Эта сыворотка, видите ли...
Господин Тибо, устремив глаза в одну точку, молча слушал, как лжет этот человек.
Все вдруг стало для него прозрачным: и эти ребяческие объяснения, на удочку которых он попадался столько раз, и попадался по собственной охоте, и эта развязность - все было притворством. Он касался перстами всех и всяческих масок, и он насквозь видел этот зловещий фарс, который с ним разыгрывали столько месяцев подряд. Правда ли, что Антуан скоро вернется? Ничему уже нельзя верить... Впрочем, ему-то что? Все стало безразличным: окончательно, полностью безразличным.
Он даже не удивился своей способности так ясно читать чужие мысли. Вселенная образовала некое единое целое, чуждое и герметически замкнутое, и ему, умирающему, не было там места. Он был один. Наедине с тайной. Наедине с богом. До того один, что даже присутствие бога не могло преодолеть этого одиночества!
Он не заметил, как веки его смежились. Он не старался теперь отличать явь ото сна. Некий покой, сродни музыке, овевал его. И он позволил себя осмотреть, ощупать, не проявляя ни малейшего нетерпения, пассивный, умиротворенный, отсутствующий - нездешний.
III
В поезде, увозящем в Париж братьев, уже давно отказавшихся от мысли уснуть, оба они сидели каждый в своем углу, отяжелев от спертого воздуха полутемного купе, и упорно делали вид, что спят, желая оградить, продлить свою отъединенность.
Антуан не мог сомкнуть глаз. Тревога об оставленном больном отце сразу ожила, как только они тронулись в обратный путь. Долгие ночные часы под грохот колес, бессонница и усталость отдали его, беззащитного, в полную власть самым страшным фантазиям. Но по мере того, как они приближались к больному, тревога постепенно стихала: скоро он сам на месте сможет все обдумать, сможет действовать. Теперь возникали трудности иного порядка. Как сказать отцу о возвращении беглого сына? Как известить Жиз? Письмо, которое он предполагал отправить сегодня же в Лондон, было не так-то легко написать: надо сообщить Жиз, что Жак жив, что он нашелся, даже вернулся домой, и, однако, помешать ей примчаться в Париж.
Когда в купе засуетились пассажиры, когда кто-то отдернул шторку с фонаря, братьям волей-неволей пришлось открыть глаза. Их взгляды встретились. У Антуана екнуло от жалости сердце, когда он увидел лицо Жака, нервное, беспокойное и в то же время такое покорное.
- Плохо спал, а? - бросил Антуан, коснувшись колена брата.
Жак, даже не сделав над собой усилия ответить на вопрос улыбкой, равнодушно пожал плечами; потом, упершись лбом в вагонное стекло, он погрузился в дремотное молчание и, казалось, не хочет и не может из него выйти.
Ранний завтрак в вагоне-ресторане, пока поезд шел и шел через дальние пригороды, окутанные предрассветным сумраком; прибытие, выход на перрон, навстречу холодной зимней ночи уже на исходе; первые шаги по вокзальной площади на буксире у Антуана, искавшего такси; все эти чередующиеся действия, лишь вполовину реальные, как бы затушеванные ночной дымкой, Жак выполнял по необходимости, будто он был ни к чему не причастен.
Антуан говорил немного, как раз столько, чтобы избежать неловкости, но говорил, как выражаются в театре, "в сторону", - так что Жаку не приходилось отвечать. Всеми их маневрами Антуан руководил с такой непринужденностью, что возвращение их под отчий кров в конце концов стало казаться самой обыкновенной на свете вещью.
Жак очутился на тротуаре Университетской улицы, потом в вестибюле, не слишком отдавая себе отчета во всем происходившем, даже в собственной своей пассивности. И когда выскочивший на шум Леон открыл кухонную дверь, Антуан со своей обычной естественно-невозмутимой манерой, не глядя на слугу, нагнулся над столом, куда складывали почту, и бросил рассеянным голосом:
Читать дальше