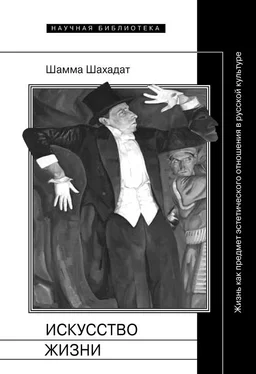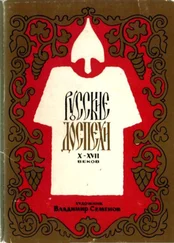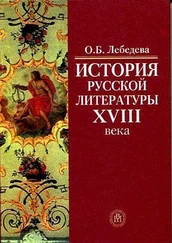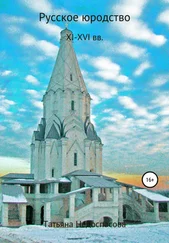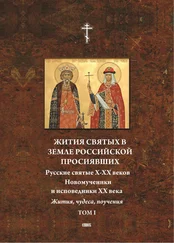Роман Чернышевского учит тому, как разрешить конфликт с деспотическими родителями, победить ревность, перевоспитать проститутку, выжить, располагая незначительными средствами (Паперно, 1996, 148). Не исключено, что дидактизм романа связан отчасти с первоначальным намерением Чернышевского посвятить себя академической карьере.
По мнению Гебауэра и Вульфа, воспитатели в «Эмиле» и в «Юлии» Руссо не в меньшей мере соблазнители, чем герои Лакло и Кьеркегора, различие лишь в том, что персонажи Руссо «прикрылись плащом педагогики» (Gebauer / Wulf, 1998, 295; к образу совратителя см.: 295 – 303).
Зара Минц (1979, 85 и далее) выдвигает на первый план символистский миф о мире, который опирается на миф о Софии и определяет сюжетную структуру символистских текстов, реализующую последовательность трех стадий мирового процесса: тезиса (божественный космос), антитезиса (земной хаос) и синтеза (воплощение божественной идеи в мире). Наряду с мифом о Софии к числу базовых символистских мифов относятся следующие мифы: апокалиптический, о двойниках, об аргонавтах, о Дионисе, об Орфее. Каждый поэт разрабатывает свой базовый миф, воплощая его различные варианты и трансформы: для Блока прежде всего важен миф о Софии, для Иванова – миф о Дионисе и т. д.
См.: Wagner-Egelhaaf, 2000.
По мнению Вагнер-Егельхааф, отделение автобиографии от родственных ей жанров проблематично, так как все они переходят друг в друга. Исследовательница предлагает отказаться от нормативных определений и заменить их относительными и дискурсивно-функциональными (Wagner-Egelhaaf, 2000, 6).
Об истинных, Кратиловых именах в мифомагической картине мира см.: Greber, 1992.
Ср. у Вл. Соловьева: «Только имя одно лучезарной подруги / Угадаешь ли ты?» (Первая редакция стихотворения «Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи», 1898); Блок писал Андрею Белому: «Пора угадать имя Лучезарной подруги» (Блок, 1960, VIII, 54). О неразгаданном имени см. главу о «Незнакомке» в моей диссертации (Schahadat, 1995, 224 – 238).
См.: Вагнер-Егельхааф, 2000, 4, по мнению которой автобиография повествует о противоречии между референцией и перформансом. Ср. также более поздние работы по автобиографии, в которых она предстает как жанр, выявляющий «авторефлексию литературоведения» (Finck, 1999). Cp.: Holdenried, 2000.
Вагнер-Эгельхаф (Wagner-Egelhaaf, 2000, 47) цитирует Georges Gusdorf: Voraussetzungen und Grenzen der Autobiographie // Niggl (Hg.): Die Autobiographie. Darmstadt, 1998, 146: «Автобиографию проживают, разыгрывают в собственной жизни еще до того, как она бывает записана. Между истиной жизни и истиной произведения нет принципиального различия: большой художник, большой писатель словно и живет ради своей автобиографии».
В монографии, посвященной «письму» и созданию письменных текстов, Моника Шмиц-Эманс исследует сомнительный статус « Я в промежуточном пространстве письменных знаков» и усматривает разрыв между «всеобщностью применяемых знаков и своеобразием носителя сообщения» (Schmitz-Emans, 1995, 301), то есть между общим и особенным. Символистские романы с ключом извлекают эффект как раз из этого противоречия: текст как всеобщее используется в качестве усмиряющего диспозитива, чтобы приручить все, что нарушает норму (истерика, колдовство, ведьмы).
В дальнейшем я опираюсь на работу Ханзен-Леве (Hansen-Löve, 1996, 397 – 425).
Это означало, в частности, протест против интерпретации произведения на основе биографии автора. См.: Винокур, 1997, 13. Исследование Винокура «Биография и культура» было сосредоточено не на биографии автора, как она отразилась в произведении, а на проблеме жизни как произведения искусства (Там же, 17).
Ханзен-Леве отмечает неточность формалистического понятия «литературная личность», так как оно употребляется и для А II, и для А III (Hansen-Löve, 1996, 417).
Ср. Б. Томашевский об авторах с биографией и авторах без биографий (Томашевский, 2000).
См. об этом: I, I; к Брюсову: III, I.
Во внешней перспективе символистский герой, являясь человеком модерна, нередко воспринимался как человек опустошенный; см. об этом ниже.
См.: Паперно, 1992. Впрочем, образ Пушкина как гармонической личности интерпретировался по-разному; Соловьев видел в нем скорее дисгармонию (Там же, 24); Ходасевич, резко возражая против упрощенного взаимоперевода жизни и искусства, признает тем не менее, вопреки Соловьеву, в Пушкине гармоническое единство человека и поэта (Там же, 29).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу