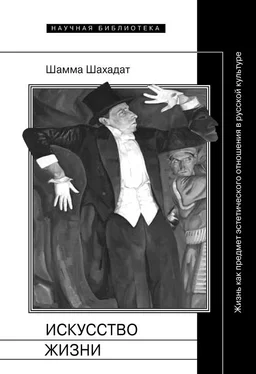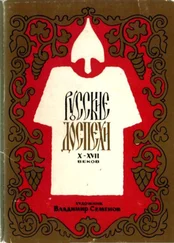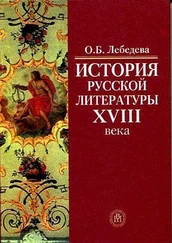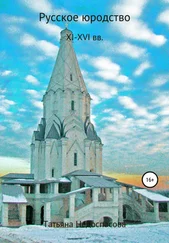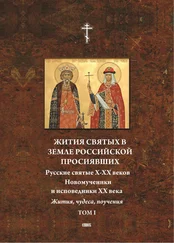Замечание Лахманн касается специально вопроса об оценке фантастического, которое в истории эстетики и поэтики нередко расценивалось как весьма подозрительный результат эксцессов эксцентрического воображения (например, Вальтер Скотт о Гофмане; см.: Lachmann, 1998). Занимаясь обманчивыми образами фантастической литературы, Лахманн набрасывает историю суждений о способности воображения – нередко по отношению к ней недоверчивых и требующих ее обуздания (Lachmann, 2002, 27 – 150).
Здесь и далее я опираюсь на работу Ренаты Лахманн о Сарбевском (Lachmann, 1994c).
Пуризм Сарбевского в решении проблемы истины получает отражение в разделении им acumina fallax argumentatio. Так же и Эмануэле Тезауро в кончеттистском трактате «Подзорная труба Аристотеля» (1655) проводит различие между «урбанным лжезаключением», к числу которых относится речь, обоснованная, не преследующая злой цели и не искажающая истины, и диалектическим лжезаключением, которое притворяется правдой. Урбанные высказывания относятся к области поэзии, имеющей статус фикции (Lange, 1968, 108 – 110).
Трактат эпохи барокко – лишь один жанр одной эпохи, тематизирующий проблему лжи как фикции. Не менее показательна в этом отношении эпоха раннего (по терминологии Ханзен-Леве, «дьяволического») символизма, представляющего дискурс отрицания и агностицизма, связанного с неспособностью к любви, надежде и вере, придающего позитивное значение лжи. «В символизме I безверие есть выражение не столько чувства утраты, вызывающей сожаление ‹…› сколько торжествующего или бунтарского дерзновения в традиции сатанизма – протеста против иллюзии веры и авторитарной власти творца, auctor mundi, которая есть результат самообмана» (Hansen-Löve, 1993b, 239). Подозрение в узурпации, адресованное творцу, согласуется «с положительной переоценкой принципа отрицания и неправды, даже и лжи, иногда с восхвалением лжи» (Там же).
«Само собою разумеется, что речь здесь идет лишь об эстетической видимости, которую следует отличать от действительности и истины, и не логической видимости, с которой ее путают, а именно эстетической, которую любят за то, что она видимость, а не потому, что принимают ее за что-то лучшее. Только такая видимость есть игра, тогда как второй тип видимости – просто обман. Считать видимость первого типа чем-то отнюдь не оскорбляет правды, ибо здесь отсутствует опасность ее подмены, а это ведь и есть единственный способ навредить истине» (Schiller, 1959, 656 и далее; письмо 26).
Именно этот случай явился предметом дискуссии на тему лжи; Баруцци (Baruzzi, 1996, 162) ссылается на работу Хайдеггера «О сущности истины», переводя греческое слово alaetheia не как «истина» (Wahrheit), а как «непотаенность» (Unverborgenheit).
«Ничто» как пустота, пробел (будь то пустота власти у Жижека или лакуны, по Изеру) – типическая тема постмодерна; на примере мистификации и романа об искусстве жизни как виртуального жанра мы будем стремиться показать, сколь часто понятия и темы постмодернистской теории присутствуют или могут быть задействованы в сфере искусства жизни как своего рода периферийного жанра.
Психоаналитические термины «латентный» и «манифестный» восходят к «Толкованию сновидений» Фрейда, который в связи с искажением сновидений пользуется словом «цензура». Цензура, представляя собой «инстанцию», контролирующую «допуск в сферу сознания», вступает в силу на переходе от латентного к манифестному содержанию сна (Freud, 1993, 157). В работе, посвященной французскому сюрреализму, Стефан Матушек (Stefan Matuschek, 1996) показывает, какую роль играло это понятие в диалоге между поэтикой и психоанализом; отталкиваясь именно от него, Бретон развивает концепцию автоматического письма. По Лосеву, административная цензура стимулирует процесс творчества, вызывая необходимость отклонения от прямых обозначений и поиска все новых слов (Loseff, 1984, 11).
Эльке Менерт перенимает эту метафору у поэта из ГДР Франца Фюмана; она характеризует такую форму отношений между автором и читателем, которая предполагает постоянное присутствие цензора, занимающего «третье место» в процессе коммуникации (Mehnert, 1996, 267 и далее).
«Мы жили в мире двойной морали и делали различие между двумя правдами: одна была для дружеского круга, другая – официальная правда для собраний, газетных статей и телеинтервью. Страх, что когда-нибудь мы их перепутаем, не отпускал нас почти никогда. Но страх был и своего рода границей между правдой и ложью» (Simonov, 1996, 15).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу