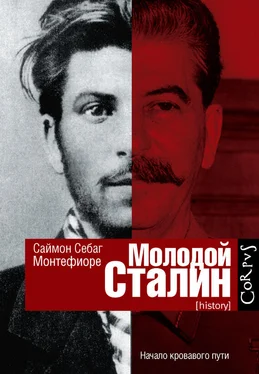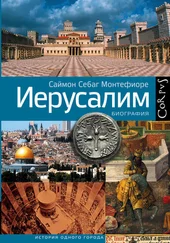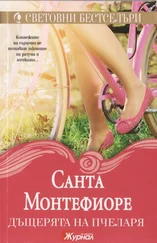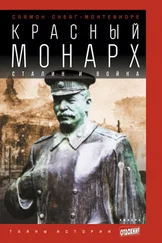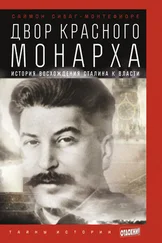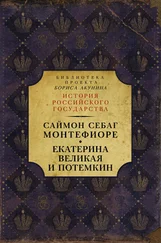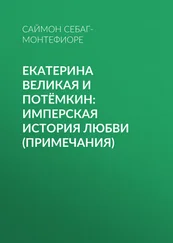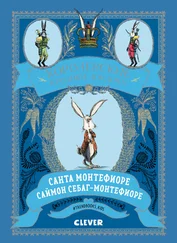Согласно бакинской легенде, самым выгодным для Сталина было похищение Мусы Нагиева, десятого по богатству нефтяного барона, бывшего крестьянина, который славился скупостью. В Венеции этот Нагиев был так поражен дворцом дожей, что построил в Баку его копию (увеличенную): великолепный дворец Исмаилия в стиле венецианской готики (теперь здесь Академия наук). Нагиева похищали дважды, но его собственные воспоминания об этих неприятных событиях довольно туманны. Ни одно похищение не было раскрыто. Много лет спустя внучка Нагиева Диляр-ханым сообщила, что Сталин прислал нефтяному барону шуточную благодарность за щедрые пожертвования большевикам [124].
Рассказывали, что миллионеры вроде Нагиева были готовы раскошелиться после “десятиминутного разговора” со Сталиным – очевидно, благодаря придуманным им специальным бланкам, в которых значилось:
большевистский комитет предлагает вашей фирме заплатить ____ рублей.
Этот бланк рассылали по нефтяным компаниям, а деньги собирал технический ассистент Сосо – “очень высокий человек, известный как “телохранитель Сталина”; было видно, что у него пистолет. Платить никто не отказывался”.
Глава большевиков подружился с бакинской организованной преступностью. Их операции и операции маузеристов часто совпадали по времени. Одна банда контролировала некий пустырь в Черном городе. Сталин заключил с бандитами соглашение, чтобы они пропускали только большевиков, а меньшевиков – нет. У большевиков были особые пароли. В самом диком городе России к насилию прибегали обе стороны. Нефтяные магнаты привлекали к охране нефтепромыслов чеченских головорезов. Один из богатейших баронов Муртуза Мухтаров, живший в самом большом дворце Баку, построенном “под французскую готику”, велел своим кочи убить Сталина. Сосо сильно избили чеченцы – возможно, по приказанию Мухтарова [125].
Сталин соблюдал строжайшую секретность. Маузерист Боков вспоминает: “Иногда он так конспирировался, что мы по полгода не знали, где он! У него не было постоянного адреса, и мы знали его только под именем Кобы. Если он назначал встречу, то никогда не приходил вовремя: появлялся либо на день раньше, или на день позже. Он никогда не переодевался, так что похож был на безработного”. Товарищи Сосо замечали, что он не похож на типичного страстного кавказца. “Сантименты были ему чужды, – вспоминает один из них. – Неважно, насколько он любил кого-то – малейший огрех против партии он не прощал, заживо кожу сдирал”.
Итак, Сталину вновь удалось раздобыть деньги и оружие. Но, как всегда, ценой человеческих жизней. Большевики-традиционалисты, например Алексинский и Землячка, “очень возмущались этими экспроприациями” и убийствами. Одного рабочего Сталин обвинил в провокации. Несмотря на отсутствие безусловных доказательств, этого человека изгнали из города, «судили», приговорили к смерти и расстреляли.
Сталин гордился тем, что он практик, специалист по “черной работе”, а не пустослов-интеллигент. Но на самом деле он был и тем и другим. Вскоре до Ленина дошло множество жалоб на сталинский бандитизм, но к тому моменту, как пишет Вулих, Сталин был “настоящим хозяином Кавказа”, у него было много преданных сторонников, которые считали его вторым человеком в партии после Ленина. Интеллигенция любила его меньше, но все признавали, что он был крайне энергичен и незаменим.
Сосо оказывал “электризующее воздействие” на своих сторонников, о которых заботился. Он обладал талантом политической дружбы, который помог ему прийти к власти. Его сосед по комнате в Стокгольме, металлург Ворошилов, энергичный светловолосый щеголь [126], тоже приехал к нему в Баку, но там заболел. “Он навещал меня каждый вечер, – вспоминал Ворошилов. – Мы много шутили. Он спросил меня, люблю ли я поэзию, и прочитал наизусть целое стихотворение Некрасова. Потом мы вместе спели. У него был очень хороший голос и слух”. “Поэзия и музыка возвышают дух!” – говорил Ворошилову Сталин. Когда был вновь арестован Аллилуев, он беспокоился о его семье. Освободившись, Аллилуев пришел посоветоваться к Сталину, который уговаривал его уехать и давал деньги на переезд в Москву: “Бери, у тебя большая семья, дети. Ты должен им помочь!”
Смерть Като была тяжелым ударом, но уже в начале 1908 года вдовец, подписывавший статьи “Коба Като”, находил время для веселья и не имел недостатка в женском обществе.
Глава 23
Тюремные развлечения: гонки вшей, убийства, доведение до безумия
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу