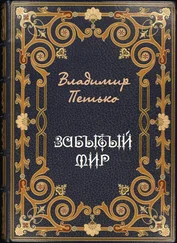Это какого угодно мужчину укачает, а уж монаху после злодейств его «економки» показалось сказкой.
Видно, и по ночам Ботагоз трудилась не только старательно, но и умело, если Ипатий подобрал брюхо, похудел, заблестел глазами и все чаще пытался поделиться с Дмитрием сокровенным, наводил разговор на постельные дела, но стеснялся, ходил вокруг да около, как кот вокруг горячей каши, восклицал нечто неопределенное: ох, женщина нам на погибель сотворена! Ох, до чего ж они на это дело способны! Ох, князь, до чего ж они до этого дела охочи! И так далее, пока в конце концов Дмитрий не уразумел и не спросил в лоб:
— Отче! Ты настоящую бабу, что ль, в первый раз встретил? Иль не справляешься?
— Да ты что! — в восторге от того, что князь поддержал, наконец, разговор, воскликнул монах. — Наоборот! Откуда что берется! И ведь все она! Сам-то я что — залез разок, да и на бок, и захрапел. А она! То тут потрогает, то там прижмется, то ахнет, то вздохнет, то изогнется как-нибудь, то потянется — я через пять минут опять уже как дикий жеребец! Ну откуда она насчет этого столько знает?! Учат их там, что ли, специально? Ведь дикарка темная, грязная, неумытая! Сколько я на нее пенной травы извел, чтоб от нее овцой вонять перестало! А ночью как подползет! Как ткнется куда носом али грудью! И груди-то ма-а-хонькие, но как голыши — не продавишь! (Тут Дмитрий облизнул губы, ставшие вдруг сухими и горячими.) А уж остальное! — Монах сокрушенно махнул рукой, — Я вот думаю, да и у тебя все спросить хотел, ты только не обидься: неужели они все там такие, неужто все так умеют?
— Где это — там? — не сразу понял Дмитрий.
— Ну — там! У татар. На Востоке вообще... — монах смутился.
— Да откуда мне зна... — Дмитрий осекся: «О Господи! Это ведь он про Юли!» Она возникла перед ним безумная, с бешено распахнутыми глазищами, сотрясаемая крупной дрожью, прижимающаяся так, будто решила влезть в его кожу и там остаться, заодно с ним, насовсем, навек! Он затряс головой, сжал зубы, скривился в усмешке. «А ведь ткнуться, потереться, ахнуть или охнуть Юли — нет... Никакой необходимости. Там и без того все полыхает синим пламенем! Знал бы ты, отец Ипат... что бы ты тогда запел? Эхх!» Но чтобы не разочаровать или, наоборот, пуще не заинтриговать, поддакнул:
— Да уж, что говорить! Плохих не держат. Умеют!
— Во-во! — монах захихикал масляно, — не иначе их там обучают, в гаремах этих, как мужика зажигать. Это ведь у нас, христиан, такое дело — грех. А у них наоборот! Жалко, поздно уж я узнал. На старости лет... Сколько времени потеряно!
— Отче! Да ты не того?! — Дмитрий повертел пальцами у виска, — Ты ведь монах вроде! Ты о чем говоришь?! И как?! И вообще: ты монах, она язычница... или мусульманка? А ты каждую ночь... Да еще жалеет, что мало, что узнал поздно!.. Это уж совсем!
— Да какой я уж теперь монах, — вздохнул Ипатий, — а Ботагоз надо крестить, надо. Негоже... Она сама жаждет. Только вот отец Михаил...
Но и после этого разговора все осталось по-прежнему. Ботагоз грешила и каялась, а монах блаженствовал.
Однако более всех привольно и роскошно существовали новые герои, Иржи и Рехек, давшие «бобрам» столь могучее оружие. Им выстроили дома на их, чешский вкус — квадратные, высокие, два этажа, да еще мансарда, а над мансардой просторный чердак с роскошной голубятней. Дома стояли на отшибе, рядышком друг с другом, похожие как два гриба, без всяких пристроек, потому что живности мастера никакой не имели, терпеть ее не могли, а хозяйство свое держали в мастерской (по-ихнему «стукарне», значит по-нашему «кузнице», что ли?), просторной, удобной, расположенной тут же, рядом с домами, в которой трудились ни много, ни мало двадцать шесть подмастерьев различного ранга.
Иржи и Рехек так наладили производство, что личного их участия в «технологическом процессе» уже не требовалось. Они только контролировали качество и соблюдение «технологии», за что спрашивали не по-чешски жестко, даже жестоко. Нарушившего какую-нибудь малость: вместо, например, шести слоев клея положившего по недосмотру или хитрости пять, а от забывчивости или лишнего усердия — семь, чехи требовали сечь плетьми, а перепутавшего (Боже упаси!) породу дерева выгоняли с треском совсем, и он вынужден был вымаливать место у других мастеров, местных, которых в Бобровке появилось и окрепло (из Чеховых подмастерьев, разумеется) четверо, и батрачить на них долгое время почти бесплатно, чтобы доказать свою порядочность, аккуратность и вернуть право называться добрым оружейником.
Читать дальше