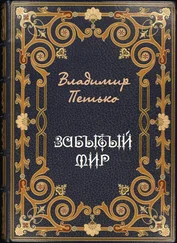Начали подъезжать сотники. Дмитрию подвезли доспех. Он начал неторопливо седлать, одеваться, изредка взглядывая на поле.
Мысль о гибели деда все сильней давила его. И уже не только и не столько горем, сколько тягостной заботой: как будет дальше?
«Как с Любартом теперь сложится? С Бобровкой что будет? Куда подаваться? Как себя вести?»
Ему и стыдно было, что пред ликом такого горя он вдруг ударился в житейские мелочи, но и отделаться от них не было никакой возможности. А самое скверное — они отвлекали его от главного.
Вот он — бой! Все силы ума надо собрать и направить на одно — победу. А тут...
Простительно, если бы его оглушило горе. Так ведь нет! Если себе не врать: горе было, ощущалось, до тошноты, до боли, но оно не мешало думать, помнить, принимать решения. Мешали вот эти житейские: как? Куда? Что теперь?
«Дьявольщина!»
Конь был оседлан. Доспех надет, подтянут, пригнан.
По полю потянулись мелкие и крупные ватажки немцев, обремененных награбленным добром: доспехом, лошадьми.
Дмитрий сделал знак «к бою!». Лес позади него зашевелился. А он смотрел на едущих немцев, и ничего не отмечалось у него в голове кроме их длинных от заходящего солнца теней.
И вдруг ни с того, ни с сего стоявший рядом Гаврюха шепнул:
— Ремешок у него на шлеме перетерся. Или подопрел.
— Что?!! — почти вскрикнул Дмитрий.
— ...Не обрезан, а порвался. Вот тут, под ухом, я посмотрел...
У Дмитрия словно чирей прорвало: боль пронзила и отпустила, слезы побежали в небольшие еще усы, и словно шепнул кто-то: «Отомсти за деда, и ты успокоишься».
Дмитрий не стыдясь, не отирая слез, повернулся к солнцу. Хоть оно и спряталось за лес, хоть и было на западе, ведь он всегда обращался к НЕМУ на солнце. Перекрестился и склонил голову. Мелкие мысли оставили его.
Снял свой шлем с луки седла и внимательно осмотрел ремешок и застежку. Потом медленно надел, поправил, застегнул. Стоявшие вокруг сотники, разведчики, отроки с тревогой смотрели на него. Дмитрий вскочил в седло, оглянулся, скривил рот в вымученной улыбке:
— За деда надо отомстить, ребята. Иначе Он нам не простит. И было ребятам непонятно: он — это дед или Он сам, Бог.
— Не сомневайся, княже, — тихо ответил за всех Вингольд.
— Все готовы?
— Да.
— Выходим, как бились: Михаил, ты левый фланг, ты вместо деда. Вингольд — правый, я в центре. Сильно не растягивайтесь, чуть что — ко мне плотней, а то растеряемся. Корноух, ведешь арбалетчиков сразу, вместе с Михаилом и разворачиваешься на восток. Охранишь нам тыл. Чтобы ни одна тварь не прорвалась!
— Постараемся, княже.
— По местам! Я дам знак, — и отвернулся к немцам.
По полю всадники ехали уже сплошной беспорядочной толпой. Пыль встала стеной. Слышались крики, хохот, кто-то затянул уже песню...
— Корноух!
— Я, князь.
— Будешь держать дорогу, никуда не уходи. Жди нас здесь, хоть сдохни. Понял?
— Понял. Только вы не очень, я думаю...
— Как получится. Жди!
Толпа победителей вдруг резко поредела, и минут через десять поле опустело.
— Нельзя дать им оторваться, братцы, — вздохнул Дмитрий и последний раз внимательно посмотрел на восток. — Вперед!
Михаилу выезжать было дальше всех, его три сотни пошли первые, галопом. Дмитрий с четырьмя сотнями тронул следом, рысью. Вингольд остался на месте, ожидая, когда развернется центр. Корноух поскакал вслед за Михаилом, растягивая своих арбалетчиков в цепь.
Дмитрий видел: воины сосредоточенны, собранны, уверены, свежи. Не было суеты, бестолочи, накладок.
«Хоррошо! Оччень хоррошо! — Дмитрий сильней и сильней сжимал зубы.
— Ну, ссуки тупорылые! Держись!»
Это действительно получилось хорошо. Потому что были маневр, задумка, бой, как подсказывал Плутархос, а не глупое противостояние «стенка на стенку», где полководцу нечего делать, кроме как посылать в драку все новые и новые резервы и ждать, у кого они быстрее кончатся. И в зависимости от этого либо идти вперед, громить, жечь и грабить, либо уносить ноги.
Ведь Бобер, хотя и не читал Плутархоса, никогда силой силу не ломал и внука к тому приучал. А уж монах со своим Плутархосом и вовсе воспитали...
И вышло все как в сказке, как во сне. Полк развернулся и кинулся в недалеко еще отползшую тучу пыли, в которой никто не подозревал о смерти, накатывавшейся сзади.
Волынцы стали рубить не сопротивлявшихся людей, людей расслабленных, уставших и радостных, одержавших победу, многих уже полупьяных, нагруженных награбленным добром, — то есть полностью небоеспособных.
Читать дальше