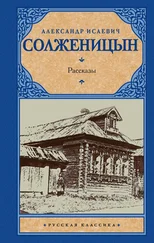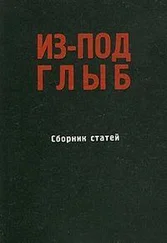Сочинять в лагере А. С. мог лишь устно. Обычно, составив в уме до 20–30 строк, он скрытно записывал их на клочке бумаги, тут же отделывал, затем учил наизусть. Чтобы не оставлять улик, рукопись обязательно сжигал.
«А с клочками несожжёнными медлить было нельзя, – рассказывал А. С. – Три раза я крупно с ними попадался, и только то меня спасало, что самые опасные слова я никогда не вписывал на бумагу, а заменял прочерками. Один раз я лежал на травке отдельно ото всех, слишком близко к зонному ограждению (чтобы было тише), и писал, маскируя свой клочок в книжице. Старший надзиратель Татарин подкрался совсем тихо сзади и успел заметить, что я не читаю, а пишу.
– А ну! – потребовал он бумажку. Я встал, холодея, и подал бумажку. Там стояло:
Всё наше нам восполнится,
Вернётся нам в отдар.
Пять суток пеших, помнится,
Из Остероде в Бродницы
Нас гнал [конвой] к [азахов] и т [атар].
Если бы “конвой” и “татар” были написаны полностью, поволок бы меня Татарин к оперу, и меня бы раскусили. Но прочерки были немы:
У каждого свой ход мысли. Я-то боялся за поэму, а он думал, что я срисовываю план ограждения и готовлю побег. Однако и то, что нашлось, он перечитывал, морща лоб. “Нас гнал” уже на что-то ему намекало. Но что особенно заставило его мозг работать, это – “пять суток”. Я не подумал даже, в какой ассоциации они могут быть восприняты: пять суток – ведь это было стандартное лагерное сочетание, так отдавалось распоряжение о карцере.
– Кому пять суток? О ком это? – хмуро добивался он.
Еле-еле я убедил его (названиями Остероде и Бродницы), что это я вспоминаю чьё-то фронтовое стихотворение, да всех слов вспомнить не могу.
– А зачем тебе вспоминать? Не положено вспоминать! – угрюмо предупредил он. – Ещё раз тут ляжешь – смотри-и!..» (Т. 6. С. 94–95).
Ещё дважды попадали в руки надзирателю и даже начальнику смены не сожжённые вовремя стихи А. С.: из пьесы «Пир победителей» и из «Прусских ночей» (девятой главы «Дороженьки»). С «Прусскими ночами», по словам автора, было так:
«Начальник смены, вполне грамотный старший сержант, прочёл.
– Что это?
– Твардовский! – твёрдо ответил я. – Василий Тёркин.
(Так в первый раз пересеклись наши пути с Твардовским!)
– Твардо-овский! – с уважением кивнул сержант. – А тебе зачем?
– Так книг же нет. Вот вспомню, почитаю иногда» (Т. 6. С. 96–97).
Всего А. С. вынес из лагеря в памяти 12 тыс. строк. Больше половины, около 7 тыс. строк, пришлось на «Дороженьку».
Товарищ А. С. – Д. М. Панин, этапированный вместе с ним из Марфина в Экибастуз летом 1950 г., вспоминал:
«С наступлением тепла (т. е. весной 1951 г. – В. Р.) Солженицын начал читать наизусть своё первое произведение – поэму “Дорога”. Мы собирались под вечер, рассаживались на телогрейках на подсохшей земле и с восторгом слушали. ‹…› Чтобы не сбиться и ничего не пропустить, Саня откладывал каждый стих на чётках, которые ему подарил кто-то из западных пареньков [40] О технике запоминания, которой пользовался А. С., см. в этом томе стихотворение «Хлебные чётки» и примеч. к нему.
.
Лет через семь, уже после ссылки, когда Саня проездом был в Москве, я спросил его о судьбе первого детища. Он ответил, что далеко ушёл вперёд, видит в поэме ряд недостатков, в частности растянутость, повторы, и собирается её переделать. Я горячо уговаривал оставить всё как есть, не трогать экибастузский вариант и создать, если у него есть потребность, другую поэму по канонам книжной поэзии пятидесятых годов нашего века. Я крайне огорчён, если он не внял моему совету и уничтожил подлинник уникального и неповторимого памятника тех каторжных лет, переливающегося для меня красками молодости, силы и душевной чистоты» [41] Д. М. Панин. Лубянка – Экибастуз: Лагерные записки // Д. М. Панин. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Радуга, 2001. С. 287–288.
.
Осенью 1953 г., отбывая ссылку в казахском ауле Кок-Терек, А. С. впервые записал целиком хранившуюся в памяти поэму. В стихотворении «Над “Дороженькой”» (1953), обращённом к самой поэме («Дочь моя! Душа моя!»), автор объясняет, что не может привести в дом женщину из опасения, что она станет его поэме не матерью, а мачехой:
Я боюсь, она изменит наш обычай,
Длить беседы нам вечерние не даст ‹…›.
Вечерние беседы – это, по-видимому, не только припоминание и запись готовых стихотворных глав, но и одновременная их доработка.
В конце декабря 1953 г., перед отъездом в раковую клинику в Ташкент, никак не рассчитывая на исцеление от своей запущенной безнадёжной болезни, А. С. закопал рукопись в бутылке из-под шампанского у себя на огороде.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/books/90723/aleksandr-solzhenicyn-russkij-vopros-na-rubezhe-veko-thumb.webp)