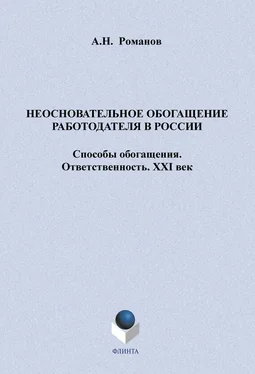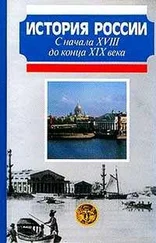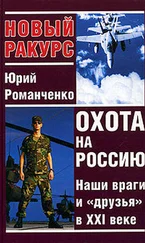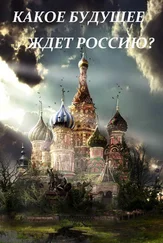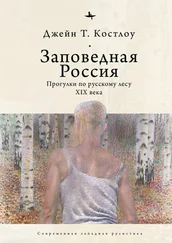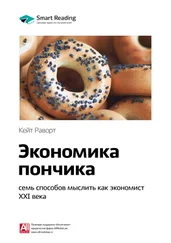Однако и эти практиканты могут считать себя счастливцами. Реальная практика большинства их сверстников выглядит иначе… «Я три раза перекрещусь, когда смогу наконец отсюда уйти!» – делится своим опытом молодая специалист-медик на страницах практикантского интернет-форума. Новые годовые практиканты работают по 40 часов в неделю плюс дежурство в выходные дни – и все это примерно за 100 евро в месяц, за обед и – если живут далеко от клиники – за проездной билет!
Практика – необходимый элемент подготовки молодого специалиста. Однако молодые выпускники вузов уже образованны, за их плечами многочисленные «практики», пройденные ими в студенческие годы. Поэтому в большинстве фирм их задействуют как самостоятельную, высококвалифицированную рабочую силу. За практикантскую «зарплату». Или вообще без таковой.
«Не соглашайтесь работать на локальных радиостанциях, – предупреждает практикант-журналист. – Они ожидают полного профессионализма – причем задаром! Я с тоской вспоминаю студенческий джоб – там хоть платили!»
Оплата студенческого труда и формирование «интеллектуального пролетариата» – отдельная тема. Автору данной статьи пришлось в студенческие годы поработать в боннской фирме, систематически анализирующей сообщения важнейших СМИ всего мира. Все работники фирмы, кроме руководства, были студентами. В их задачи входили чтение (просмотр), перевод и компьютерная «кодировка» сообщений различных СМИ, а получали они за этот квалифицированно-потогонный труд около 6 евро в час, что соответствовало зарплате начинающей уборщицы. Но зато это были постоянные рабочие места и студенты были социально застрахованы. Практикант не имеет даже страховки. Он – никто. Что же заставляет его идти на добровольную каторгу?
«Великое Обещание Постоянного Рабочего Места», – грустно шутят молодые специалисты, за плечами которых по несколько практик – и ни одного рабочего договора. «Наша фирма очень заинтересована в вас, – говорят выпускнику вуза. – Поработайте полгода практикантом, оглядитесь… А потом вас ждет место заместителя начальника отдела». И окрыленный обещанием молодой специалист работает в полную силу. В последний день практики он узнает, что дела фирмы ухудшились и зачислить его на постоянную работу она не может. А бывает и так: «Мне пообещали место руководительницы торгового филиала с месячной зарплатой 2 400 евро, – пишет неудачливая практикантка. – Но сначала я должна была пройти в этом магазине неоплачиваемую трехмесячную практику. Под практикой понимался полный рабочий день в торговом зале – подвозить товар и установка его на полки! Мое здоровье не держало – я ушла через месяц!»
«Практикантская проблема» назрела уже давно, но ее не замечали – слишком много забот было с действительно нерадивой, не желающей трудиться, неквалифицированной молодежью. А между тем ситуация складывается нехорошая: молодым специалистам, важнейшей составной части пресловутого «среднего сословия», от крепости которого, как известно, зависит функционирование демократии, навязывающие к их постепенной пролетаризации. Особенно затронуты молодые специалисты «гуманитарных» профессий – архитекторы, юристы, историки, специалисты в сфере рекламы, маркетинга и журналисты.
Образованная молодежь оказывается в худшем положении, нежели их неквалифицированные ровесники. В интересах сиюминутной прибыли работодатели в полной мере используют честолюбие молодых специалистов, их уверенность в своих силах, их надежды на будущее и, не в последнюю очередь, их индивидуализм. В сфере высококвалифицированных специалистов долгие годы культивировался образ «успешного одиночки», а профсоюзы, коллективная борьба за свои права считались уделом «рабочих», «пролетов». Давление рынка труда на этих одиночек росло, постоянные «тренинги», «повышение квалификации», осуществлявшиеся, как правило, за счет свободного времени, становились в порядке вещей. В условиях непрерывного давления страшно было представить себе хоть на короткое время «вылететь» из системы, оказаться на учете биржи труда или, того ужаснее, социальной службы! В трудовой анкете не должно быть «пустых» лет! И, кроме того, в кругу бывших однокурсников легче сказать: «Я решил сделать еще одну практику…», чем честно признаться «Я два года не могу найти работу!»
«Практикантские карьеры» затягиваются иной раз на 10 лет. Но не более того. «В 35 лет практикантом тебя уже не возьмут, – с горечью констатирует повзрослевший индивидуалист. – А шансов найти постоянное рабочее место в этом возрасте еще меньше. Выбор: социальное пособие – или эмиграция!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу