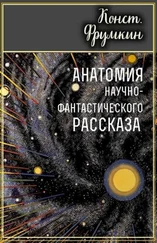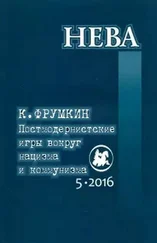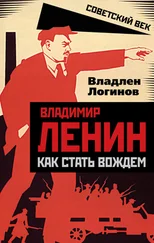Когда звучат Окуджава, Галич, Высоцкий, Анчаров, Ким, Визбор и другие поэты-певцы, водораздел между ними и эстрадой обозначается четко. Всё другое – характер слов, интонация, манера исполнения. В твоем случае дело обстоит сложнее. Прошу, преодолей типичное для художника нежелание себя анализировать (ты же в прошлом физик-теоретик!) и прокомментируй брошенную тобой однажды фразу: «Но лично мне дорога и важна принадлежность к цеху авторской, поэтической песни». Чем обеспечивается эта принадлежность?
Право первого «ответного выстрела» Сергей галантно предоставил даме…
Татьяна Никитина: Дорогой Володя! Ты, как говорится, всего-навсего попросил нас самим себя проанализировать. А мы-то, грешным делом, так рассчитывали на тебя… Нам ведь и в самом деле хочется от ТЕБЯ услышать, кто мы да что. Я все эти дни думала о твоих вопросах и решила, что, пожалуй, может, и в самом деле лучше вместе попытаться всё восстановить – так много воды утекло с того начала, когда и ты варился в гуще нашей песен-ной жизни.
Немного из истории. Странное дело, но в МГУ первое песенное и самодеятельное (агитбригадное) гнездо зародилось на биофаке. Странно, потому что незадолго перед этим именно этот факультет был растерзан арестами и травлей сторонников науки генетики. И было что-то необъяснимое в том, что студенты курсом старше страстно читали все протоколы сессии ВАСХНИЛ и страшных собраний на факультете, а их коллеги помоложе ударились в веселую и счастливую студенческую жизнь. Они писали оперетты, стихи, танцевали и пели. Где-то примерно в эти годы возникло поэтическое объединение «Магистраль», которым руководил поэт Левин. Самой яркой фигурой в самодеятельности биофака был Дмитрий Сухарев. Он же и стал участником левинского семинара. И тогда на биофаке, куда приходили и студенты – географы и геологи, начали рождаться первые студенческие песни. По-видимому, в этом явлении был не простой уход от действительности, можно сказать, инфантильность, а стремление создать свой параллельный мир существования – со своим языком, со своими словечками, песнями, эмоциями. Одним словом, «свободное дыхание». У биологов всё было вперемешку. Кто-то писал музыку, кто-то писал стихи, и они же писали стихи или музыку для чужих песен и на чужие стихи. Главное было что-то сотворить, а уж со славой никто не считался. Мир был их личный и общий, все друг друга понимали с полуслова, и в этом было единство. В Московском педагогическом, где родился еще один песенный центр, практически только Ада Якушева и Юра Визбор «грешили» совместными песнями.

Татьяна и Сергей Никитины на 50-летнем юбилее Дмитрия Сухарева (в центре). 1980, улица Трофимова, 33, КСП
Пишу об этом подробно потому, что эта же атмосфера возникла и у нас, на физическом факультете (тоже отнюдь не самом демократическом и очень антисемитском), почти 10 лет спустя. Но расцвет наших «физических» искусств пришелся полностью на хрущевское время, и физики уже позволяли себе смелее «гулять по буфету». Это тоже были вполне невинные шуточки над родным факультетом, и все-таки…
«…Неподцензурный куплет какой-нибудь шуточной песенки, озорная строка, непочтительностью своей по отношению к каким-нибудь официально узаконенным государственным святыням граничившая с хулиганством, воспринимались как глоток свежего воз-духа». (Б. Сарнов)
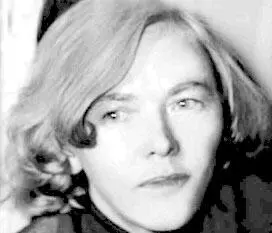
Ада Якушева. Начало 80-х
Это очень точное наблюдение. Шутки и самими придуманные слова для песен и опер (у нас были оперы «Архимед» и «Серый камень») произвели буквально переворот в сознании студентов нашего факультета. Повеяло свободой, и хотя потом жизнь много раз показывала, как призрачны были наши надежды, от этой прививки мы не излечились никогда, осталась генетическая память этой вольницы на всю жизнь. Вот такова была атмосфера, в которую мы попали, став студентами МГУ. Хочу сказать, что нам, кто был на пару лет младше и кто с восторгом пел ВСЕ новые песни из Питера (Городницкий, Клячкин, Кукин…) и ВСЕ песни из пединститута, было до ламп очки авторство. Прежде всего осваивали песни. Такое «разделение по огородам» возникло позднее, когда начались сольные выступления и когда стали явно формироваться Авторы. С Булатом Шалвовичем, с Галичем, с Высоцким история совсем другая: они сразу ста-ли отдельным явлением.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
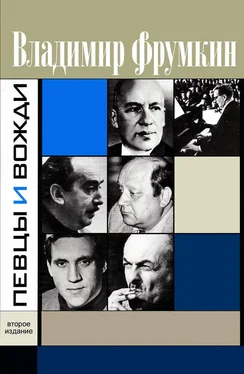

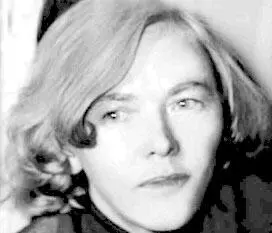
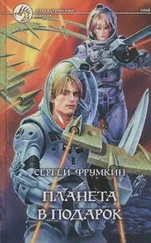
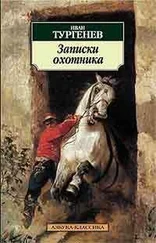


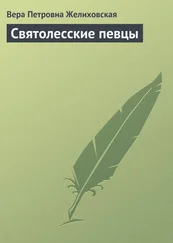
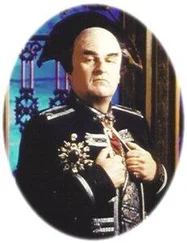
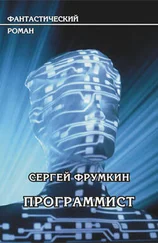

![Энн Маккефри - Хрустальная певица [= Певцы Кристаллов]](/books/332404/enn-makkefri-hrustalnaya-pevica-pevcy-kristallo-thumb.webp)