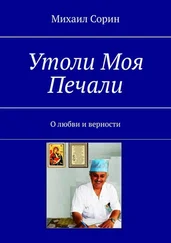Спускаться было ничуть не легче, а может быть, даже и труднее, чем взбираться. Тяжелая добыча тащила нас, бросала в стороны, вынуждала искать более удобные проходы, делать большие петли, и поэтому мы достигли лагеря у Молочного озера, когда уже смеркалось.
При свете костров мужчины содрали с барана шкуру, осторожно, не пролив ни капли, спустили в большое блюдо кровь, разделали тушу.
— Будет хан, — сказал Комбу.
— Какой хан? — удивился я.
— Настоящий, — не пускаясь в объяснения, ответил он.
Женщины очистили бараньи кишки и наполнили их кровью, смешанной со сливками и всевозможными приправами. (Кстати, приправы здесь не покупают, а собирают в тайге и в горах. Тут есть и дикий чеснок, и дикий лук, и разные другие пахучие травы, названия которых я не знаю, но которые вполне заменяют петрушку или лавровый лист. Сейчас, в конце лета, у каждой юрты на расстеленных полотнищах сушатся на солнце эти таежные приправы. На зиму. Здесь сушат и ягоды: красную и черную смородину, а также многие другие, которые, говорят, очень вкусны со сливками.) Наполнив кишку, ее завязывают и опускают в кипящий котел.
Через несколько минут хан готов. Вместе с ханом появляется и бидон араки. Налитая до краев пиала, украшенная орнаментом, переходит по кругу из рук в руки, и каждый, принимая ее, говорит о счастье, желает удачи и здоровья тебе, твоей семье и всему твоему народу. Горячий хан, дымящийся, обжигающий руки, исчезает с большого подноса. По вкусу он напоминает нашу кровяную колбасу.
К пиршеству присоединяются и женщины. Они ютятся под боком у своих мужей и молча слушают мужские разговоры о жизни, о прежних и нынешних временах. Это целые истории. Одни из них веселые, другие — грустные, третьи — драматические и даже трагические. Последние относятся к старым временам. И хотя старина эта очень относительна: лет двадцать — тридцать тому назад, — рассказы мужчин переносят тебя, кажется, в средневековье, в эпоху феодального строя, со всеми его жестокостями и бесправием простого человека. Мы, литовцы, знаем историю своего народа, знаем, что нес нашим предкам феодализм: насилие, произвол, страшные физические наказания, абсолютное бесправие, когда человеку жилось хуже, чем собаке. То же было и здесь, в Туве. Однако особенно потрясли меня сами рассказчики — живые свидетели или участники этих жутких историй. И рассказывают они обо всем не сухим языком учебника, а дрожащим от волнения голосом, и во время рассказа пожилые женщины нередко опускают глаза и отходят от костра, пряча в темноте свои слезы. И у меня мелькает мысль, что, может быть, двенадцатилетняя девочка, которая из-за невыносимой нужды и голода была отдана в лапы богатого феодала, это и есть та самая Шолбан [2] Заря. Это имя в Туве можно встретить как у женщин, так и мужчин. — Прим. автора.
, которая только что встала от костра и ушла в темноту, потому что не в силах слушать рассказ о той страшной ночи, когда ее, двенадцатилетнюю, изнасиловали, как топтали ее ногами, точно шелудивую собаку, и заставляли целовать ноги своего повелителя… И сам рассказчик, по-моему, не кто иной, как тот самый бедный юноша Дандак, который впоследствии связал свою жизнь с несчастной Шолбан, иначе почему у него во время рассказа дрожит голос, почему дергаются мускулы лица и друзья-чабаны услужливо подносят ему полную пиалу араки, а он жадно, большими глотками пьет, словно стараясь погасить разгоревшийся внутри огонь, а потом сидит молча, не отрывая глаз от раскаленных угольев? Больше всего, должно быть, потрясает в рассказах эта непосредственность, когда видишь людей, пришедших в социализм из феодализма, а они еще ничуть не похожи на дряхлых стариков.
Потрескивают лиственничные поленья в костре, пиала делает круг за кругом, безостановочно переходя из рук в руки, и так же безостановочно течет рассказ о навеки канувших в прошлое временах, о страшных обычаях, некогда процветавших в этом крае, ни происхождения, ни смысла которых уже не могут объяснить мои собеседники. Они лишь пожимают плечами, сами удивляясь тому, что такое могло быть на самом деле. Особенно тяжела была доля женщины, и начиналась она в ранней юности, часто в том возрасте, когда девушке снятся еще детские сны. Плохим отцом считался тот, кто не мог поставить своей дочери-подростку отдельной юрты. Позор и стыд падали не только на него, но и на весь род. И родители на последние средства ставили подрастающим дочерям юрты, чтобы они жили там отдельно. А по ночам в такие юрты забредали мужчины — и местные, и из окрестных селений… И так длилось до тех пор, пока кто-нибудь из них не возьмет девушку в жены.
Читать дальше




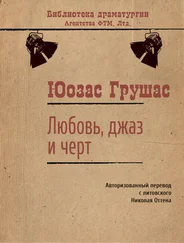
![Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]](/books/201531/yuozas-baltushis-prodannye-gody-roman-v-novellah-thumb.webp)